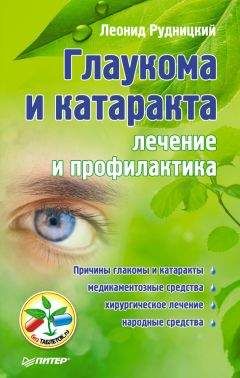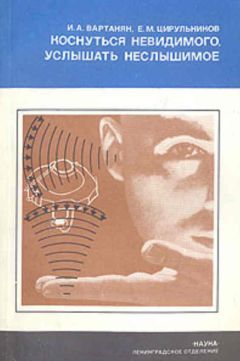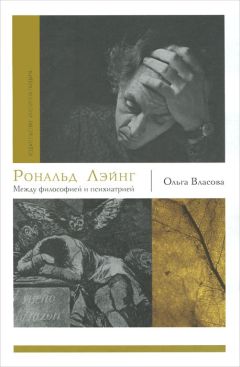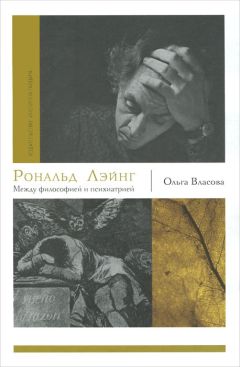Ольга Власова - Антипсихиатрия. Социальная теория и социальная практика
И экзистенциально-феноменологическая психиатрия, и антипсихиатрия начинают свое развитие благодаря междисциплинарному «зазору», эдакой «складке междисциплинарности». Их практика строится в пространстве практики психиатрии, а теория движется философией, социально-критической мыслью, антропологией и прочими гуманитарными идеями и теориями. Неизменно образующиеся при таких сочетаниях внутренние противоречия хотя и приводят к интересным следствиям, но непреодолимы. Метаонтические наброски экзистенциально-феноменологических психиатров – ярчайшая страница в истории философии, но психиатрии сложно использовать их в практике. Социально-критическая теория антипсихиатрии станет повторением этого опыта противоречия.
2. От культурной антропологии к социальной теории психического заболевания
В 1920–1930-е годы этнология и культурная антропология переживает период своего расцвета, проводятся многочисленные полевые исследования, которые затрагивают все аспекты человеческой культуры, включая область девиаций, в том числе психических.
Еще в 1934 г. Рут Бенедикт в своей статье «Антропология и анормальное»[31] предпринимает первую попытку поставить проблему психических заболеваний в культурном контексте. Рассматривая категории нормального и ненормального, она задается вопросом о том, можно ли расценивать их формирование как функцию культуры.
Бенедикт основывает свое исследование на этнокультурном материале и в этой небольшой работе сосредоточивает свое внимание на непосредственных примерах того, как признанное ненормальным в одной культуре может терпимо приниматься или даже активироваться и приветствоваться в другой. Она обращается к явлениям мистических экстазов, экстрасенсорных способностей, которые считаются не вполне приемлемыми для западной культуры, но в традиционных обществах расцениваются как особенный высший дар. Другой пример – гомосексуализм. В западном обществе он наделен анормальным статусом, но в некоторых традиционных культурах окружен почитанием. Так, для многих племен американских индейцев характерен феномен «бердачес»: это мужчины, после наступления половой зрелости менявшие сексуальную ориентацию, одевавшиеся как женщины и жившие с мужчинами. Все эти люди – мистики, бердачес, – как заключает Бенедикт, интегрированы в социальные отношения.
Еще более примечательно, на взгляд Бенедикт, то, что ненормальное для нашей культуры может выступать краеугольным камнем социальной структуры других культур. Здесь показателен пример племен Северо-Западной Меланезии, где те черты, которые для нас являются параноическими, структурируют культуру. Там экзогамные племена расценивают друг друга как непримиримых врагов, каждый из которых живет только посредством черной магии: всякий хороший урожай считается свидетельством кражи урожайности у соседнего племени, всякий подарок расценивается как попытка отравления, и ни одна кастрюля не оставляется без присмотра во избежание дурных последствий, а есть чужую пищу запрещено под страхом изгнания из общины даже в периоды голода. Эти племена ведут непрерывную войну и живут в состоянии постоянной подозрительности, и эти подозрительность и «мистическая война» закладывают основание их жизни. Ссылаясь на исследования Р. Фортун, Бенедикт описывает случай одного из членов племени, совершенно не похожего на других: дружелюбного, радушного, доброжелательного и любящего помогать другим, соплеменники которого никогда не говорили о нем без насмешек и считали его сумасшедшим.
«Эти иллюстрации, представленные лишь очень кратко, – заключает после всех примеров Бенедикт, – показывают, что нормальность детерминирована культурой»[32]. Предпочтительные образцы поведения, на ее взгляд, закрепляются автоматически, без всякого сознательного руководства, на протяжении долгого времени и зависят от множества факторов обособленного существования группы, а также контактов с другими культурными группами. Так вначале еле заметные культурные предпочтения развиваются и закрепляются.
Для Бенедикт норма, в том числе норма психическая – это проблема этики, а не психиатрии. Она подчеркивает: «В общем, нормальность, в самом широком смысле этого понятия, определяется культурой. Во всякой культуре это прежде всего термин для обозначения социально культивируемого сегмента человеческого поведения; а ненормальность – термин для того сегмента, который в данной цивилизации не задействован. То, как мы смотрим на эту проблему, обусловлено тем, что принято в нашем обществе»[33]. Исследования антропологов указывают, что норма не основана на неизменной человеческой природе и что она меняется от общества к обществу, как меняется этика. Это то, что одобряется, принимается обществом.
Утверждая, что каждая культура – это обилие различных возможностей поведения, Бенедикт приходит к выводу о том, что культура всегда предполагает как черты, соответствующие общепринятым, так и те черты, которые не соответствуют предпочтительному типу поведения в этом сообществе. Однако группы людей, которые несут эти два типа поведения, не равны. «Большинство индивидов во всякой группе, – пишет Бенедикт, – скроены по культурному образцу. Другими словами, большинство людей пластичны по отношению к прессующей силе общества, в котором они рождаются. В обществе, где поощряется транс, как в Индии, они будут переживать сверхъестественный опыт. В обществе, которое институализирует гомосексуальность, они будут гомосексуальны. В обществе, которое считает основной целью человека накопление богатств, они будут копить имущество. Девианты, вне зависимости от типа поведения, который институализирован культурой, всегда в меньшинстве… Малый процент девиантов в любой культуре связан не с твердостью инстинктов, благодаря которым общество строит себя на основании фундаментального здравомыслия, а с повсеместным фактом, что, по счастью, большая часть человечества с готовностью принимает любую форму, которая ему диктуется…»[34].
Эту точку зрения разделяли практически все этнологи и антропологи. Так, Мелвилл Херсковиц объяснял статус нормы и девиации в культуре, привлекая понятие «инкультурация». Инкультурация – вхождение в культурную среду, определяющую восприятие реальности, мышление и модели поведения, а также представления о норме и патологии. Именно организация отношений в культуре, по Херсковицу, очерчивает норму и отклонение[35]. Жорж Деверо, основываясь на полевых исследованиях культуры индейцев хопи, папуасов Новой Гвинеи, племени седанг и проч. разработал социологическую теорию шизофрении. Он описывает шизофрению как этнический психоз западной культуры, характеризующийся нереалистичным восприятием окружающего мира, и психозом этим, на его взгляд, страдают и врачи, и пациенты. Восприятие реальности здесь сходно с архаическими формами мышления, заменяющими в случае необходимости ориентацию в реальном мире псевдоориентацией в сверхъестественном. При этом социокультурная реальность является пространством шизофрении: она не может запускать сам шизофренический процесс, но шизофрения предстает как дезориентация в этой реальности. Деверо настаивает, что шизофрения укоренена в западной культуре и именно поэтому западная наука не может определить ни ее анатомические основания, ни этиологию, ни вылечить от нее. Поскольку шизофрения – это феномен культуры, избавиться от нее, по его убеждению, можно только путем культурной революции[36].
Все эти исследования культурных антропологов указывают на тот факт, что «каждая культура создает из болезни образ, характер которого очерчивается всеми вытесняемыми или подавляемыми ею антропологическими возможностями»[37]. Мишель Фуко подчеркивает, что такое понимание болезни представляет ее одновременно в негативном аспекте и в аспекте возможности: в негативном аспекте, поскольку болезнь сопоставляется со средним, и сущность патологического выражается как отклонение, маргинальное, как поведение, которое не включено в культуру; в аспекте возможности, поскольку болезнь задается антропологическими возможностями, которые сами по себе, вне связи с культурой, патологическими не являются.
Фуко, анализируя американскую антропологию, высказывает очень ценную мысль, которая станет поворотной не только для его собственного творчества, но и для развития антропологических, психологических исследований психического заболевания, а также для формирования антипсихиатрии. Он пишет: «…Наше общество не хочет узнавать себя в том больном, которого оно изгоняет или заточает… <…> В действительности общество позитивно выражается через демонстрируемое его членами психическое заболевание, и происходит это вне зависимости от того, каким статусом оно наделяет эти болезненные формы: помещает ли их в самый центр своей религиозной жизни, как это зачастую бывает у первобытных людей, или, располагая за пределами общественной жизни, стремится экспатриировать их, как это делает наша культура»[38].