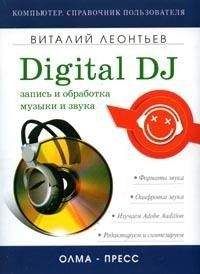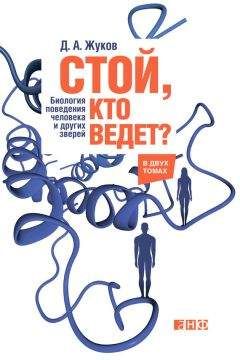Владимир Лебедев - Достоевский над бездной безумия
Почему же развитие Лизы проходит через истерические фантазмы, мысленное экспериментирование? Какое значение для ее нравственного роста имеет доведение до логического предела тех или иных форм поведения?
Ответить на эти вопросы можно, опираясь на самонаблюдение жены и верного соратника Достоевского – Анны Григорьевны, которая, как мы уже упоминали, была не лишена истеричности. В своих воспоминаниях она этого и не скрывает. Так, например, в порядке «шалости» она послала Достоевскому выписанное из бульварного романа письмо об измене жены, спровоцировав этой шуткой сцену ревности. Но особенно интересно самонаблюдение ее после смерти Достоевского, когда тело его еще находилось в доме: «В последний день... со мной начались истерики... После одной из панихид, чувствуя нервный клубок в горле, я попросила кого-то из близких принести мне валериановых капель. Стоявшие около... впопыхах начали... говорить: „Дайте скорее валериану, валериану, где валериан?“ Та к как существует имя „Валериан“, то моему расстроенному уму пришла смешная мысль: плачет вдова, и все, чтобы ее утешить, зовут „Валериана“. От этой нелепой мысли я стала неистово хохотать и восклицать „Валериан! Валериан!“ и забилась в сильной истерике».[70]
Исходя из психологически-нравственного значения истерического механизма переработки морального конфликта, нам это самонаблюдение представляется так. А. Г. Достоевская и при жизни своего мужа болезненно переживала большую разницу в их возрасте. Мысль, что и он сам, и его многочисленные поклонники, родственники могут заподозрить ее в бессознательном и подавляемом желании иметь молодого возлюбленного, беспокоила ее. После смерти мужа эта двусмысленность для молодой вдовы обострилась. В переживании эта неприемлемая для нее идея о «молодом любовнике» была доведена до анекдотического абсурда и изжита. Вся дальнейшая жизнь ее была без остатка посвящена увековечиванию памяти своего великого мужа, осуществлению задуманных им добрых дел.
Основная «сверхзадача» Лизы Хохлаковой в пределах написанного романа – вырваться из изоляции, связанной с болезнью, и войти в реальную жизнь. Причем наиболее вероятно, что она должна была стать в дальнейшем соратницей Алеши, который выйдет из монастыря в мир. Изоляция Алеши от мирской жизни в монастыре психологически аналогична одиночеству Лизы, обусловленному ее болезнью. Но если Лиза, готовясь к разностороннему общению, развивается в воображаемых ситуациях истерических фантазмов, то Алеша формируется в общении с людьми, участвуя в решении трагических ситуаций его близких. Аналогично Анне Григорьевне, но только более по-детски Лиза прогнозирует свою будущую жизнь. Безнравственные поступки, совершаемые в воображении, нужны ей, чтобы научиться избегать зла на пути к добру, выработать в изоляции болезни «противоядие» к плохому и порочному.
Каждое из многочисленных фантастических предположений, обсуждаемых Лизой и Алешей, может стать притчей, самостоятельно законченным художественным произведением. В этом есть сходство Лизы с самим Достоевским, в творческой лаборатории которого предельное развитие замеченных в реальной жизни нравственных ситуаций являлось могучим механизмом философского освоения противоречий мира.
Причем Лиза не только проигрывает в своих истерических переживаниях проблемы трех братьев Карамазовых, но и с разных сторон подходит к моделированию в своем воображении переживаний Христа, его палача и наблюдающего зрителя на Голгофе. Именно так можно правильно понять рассказ Лизы о распятом мальчике, поразивший и возмутивший А. М. Горького.
Если рассмотреть ее рассказ непредвзято, то мы увидим, как Лиза страдает вместе с распятым мальчиком: «Знаете... как прочла, то всю ночь и тряслась в слезах. Воображаю, как ребенок кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают)». И одновременно она переживает чувство зрителя: «Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть...» И, наконец, пытается представить, как палач «...четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих руках, пробил гвоздями и распял на стене, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался... Я иногда думаю, что это я сама распяла» (15; 24).
При этом она как в театре одного актера перевоплощается последовательно в участников этого действа, максимально обобщенно, но вместе с тем ярко и образно отражающего нравственный конфликт человечества. Недаром для нас, осознающих трагедии двадцатого века, был так необходим образ страдающего Христа – Мастера у Булгакова и Авдия Калистратова у Чингиза Айтматова. Для выработки правильных, адекватных неэгоистических отношений к противоречивости и трагичности ситуации нам, как и Лизе, необходимо было хотя бы на уровне художественной фантазии прочувствовать соотношение добра и зла каждой из социально-психологических позиций треугольника «Плахи». По законам жизни в предполагаемых обстоятельствах, раскрытых К. С. Станиславским при формировании принципов актерского мастерства, Лиза воспитывала чувства, готовясь к подвижничеству, подобному милосердному служению ближнему доктора Гааза, и организации воспитательного дома вместе с Алешей. Лиза, по замыслу Достоевского, в планировавшемся «главном, втором романе» должна стать другом и помощником Алеши, поддерживающим его деятельность в миру. И поэтому ее истерическое развитие – это этап преодоления зла через проигрывание его на себе и в себе как путь выработки высоких нравственных начал и формирования зрелых, полноценных отношений личности с окружающим миром, основанных на чувствах. Для развития нравственности человек, по мысли Достоевского, не имеет права отворачиваться от трагичности самых жестоких и мрачных проявлений жизни. Он осуждал «слабодушие и манерность» И. С. Тургенева, отвернувшегося в решающий момент от наблюдаемой им казни.
Лиза понимает творческий, близкий к художественно-эстетическому характер своих истерических мечтаний, раздумий. Недаром она первым знакомит со своим рассказом Ивана Карамазова – автора «Поэмы о Великом Инквизиторе». Когда Лиза ему рассказала про мальчика и про компот, истерически демонстративно заявив, что «это хорошо», Иван вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо.
«Хорошо» Ивана может иметь двойной смысл: эстетический – как похвала поэтическому замыслу, затронувшему его нравственные мучения, и этический – как одобрение зла. Но сама Лиза, только что сказавшая, что «...в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо...», непосредственно после того, как «она как-то злобно и воспаленно засмеялась», говорит противоположное: «... все гадко! Я не хочу жить, потому что мне все гадко!..» В истерических мечтаниях девочки идет напряженная на уровне препатологии или даже патологии работа по выработке различения того, что хорошо и что плохо, идет формирование активной позиции личности в направлении от эгоизма к альтруизму и от неадекватности к адекватности.
Адаптационное значение истерических проявлений Лизы особенно четко проявляется при сравнении их с динамикой истерических расстройств и развития личности героини романа Э. Золя «Лурд» – Марии. В этом полемическом по отношению к Достоевскому произведении девушка, излечившаяся под воздействием веры в религиозные чудеса Лурда от истерического паралича, уходит в монастырь. Этот поступок, совершенный в знак благодарности Богу, оборачивается неблагодарностью не только к людям вообще, от которых она удаляется, но и непосредственно к самоотверженно любящему ее Пьеру Фроману, покидаемому ею в состоянии душевного кризиса.
Если у Марии из «Лурда» излеченная истерия порождает прикрывающийся религиозностью эгоизм, то Лизины фантазмы готовят ее к подвигу, умению дать счастье людям, стать соратником подвижника.
Истерия как этап развития личности, совершенствования человека – то принципиально новое, что наметилось Достоевским в его нравственных исканиях, в том числе и в области психического здоровья.
Путь женщины к обеспечению счастья семьи, близких не прост. Он требует воспитания чувств. И эта подготовка начинается с детства или, точнее, с того всегда нелегкого периода, когда в девочке начинает пробуждаться любящая женщина. Иногда он протекает настолько драматично и тяжело, что сопровождается истерическими реакциями.
У детей эмоционально-образные (первосигнальные, по И. П. Павлову) механизмы отражения действительности психофизиологически и в норме опережают более поздно развивающуюся абстрактно-понятийную (второсигнальную) систему переработки информации. И для восприятия глубин нравственных конфликтов, выступающих перед униженными и оскорбленными детьми, психика их оказывается неподготовленной. Будет ли истерический механизм этапом развития или же останется у этой женщины на всю жизнь как постоянная готовность к невротическим реакциям, зависит от многих обстоятельств. От тех людей, с которыми она встретится. От того мужчины, которого она полюбит.