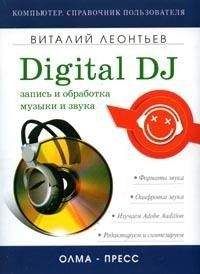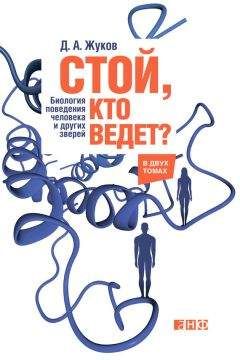Владимир Лебедев - Достоевский над бездной безумия
Раскольников после моральной победы Сони не мог уже долго и постоянно о чем-нибудь думать. Он только чувствовал, что вместо абстракции в сознании должно было «выработаться что-то совершенно другое» (6; 422).
По отношению к Соне «одна мысль промелькнула» (а не порождена логически) в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере...» (6; 422). Причем единодушия с Раскольниковым она добивалась не религиозными наставлениями. «В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговорила об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия» (6; 422). Кротостью и мягкостью была побеждена грандиозная, мрачная, сверхценная идея интеллектуала с книжными мечтами и «теоретически раздраженным» разумом.
Механизм внедрения ложной истины в сверхценные идеи личности Достоевский раскрыл, опираясь на разбор своей любимой книги «Дон Кихот» Сервантеса, сообщающей, на его взгляд, глубочайшую и роковую тайну человечества. Тайна же эта заключается в том, что красота человека, чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и ум – все это нередко теряет значение без пользы для человечества и становится предметом осмеяния. И это, по мнению Достоевского, происходит единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми награжден человек, недоставало одного только последнего дара – гения, чтобы направить все это могущество на правдивый, а не на фантастический путь деятельности, во благо человечества.
Развивая эту мысль, Достоевский обращает внимание на любопытнейшую черту, которую подметил Сервантес в сердце человеческом: «...Дон Кихот, до помешательства уверовавший в „самую фантастическую“ мечту, какую лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти поколебавшее всю его веру». И поколебали Дон Кихота «...не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага человечества рыцарей, не нелепость волшебных чудес, которые о них рассказаны, а самое постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство...» Смутило его лишь верное математическое соображение, что «как бы ни махал рыцарь мечом и сколь бы ни был он силен, все же нельзя победить армию в сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до последнего человека» (25; 26). И тут Достоевский, опираясь на домысленный им эпизод романа, выводит крайне важный для понимания диалектики противоречий у мечтателей тезис: «...Фантастический человек вдруг затосковал о реализме!» По Достоевскому, Дон Кихот не может принять то, что в книгах, которые он считает правдивыми, что-то окажется ложью. «А если уж раз ложь, то и все ложь», – мучится он и придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч людей с «телами слизняков... по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим» (25; 26). Универсальность психологического механизма преодоления противоречий закономерна. «Реализм... удовлетворен, правда спасена, и верить в главную мечту можно уже без сомнений... благодаря второй уже гораздо нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения реализма первой».
В варианте наборной рукописи «Дневника писателя» за сентябрь 1887 г. Достоевский в том же ключе убедительно разбирает и механизм научных заблуждений. Согласно его представлениям, наука основана на реализме, на ясных и точных показаниях наших чувств. Однако в иной науке может быть гораздо больше гипотез, чем доказанных фактов. И когда фактов еще недостаточно для вывода, но из совокупности их уже засияла блестящая истина, то, для того чтобы объяснить ее, человек бросается на эту истину, придумывается новая блистательная гипотеза, в которой может быть все ложь, но которая пока остроумно и хитро объясняет и доказывает первую истину. Достоевский верно оценивает психологию заводящих в тупик научных исследований, когда пишет: «А между тем та первая истина, ослепительно проглянувшая из недостаточных для подтверждения ее фактов, и вас соблазнившая истина, может быть тоже ложь и не истина, но она вас так увлекла, и вы, чтобы поверить ей окончательно, немедленно придумали вторую ложь и уверовали в нее пожалуй еще пуще, чем в первую...» (25; 238).
Еще с большей социальной остротой этот психологический механизм раскрывается им на примере формирования морально-нравственных идей. Не только «женщина, околдовавшая мужчину», мечта, какой-то факт или явление, а любой человек может оказаться объектом культа (все то, что мы «возлюбили» без здравой критики). Заменим слово «любовь» на «поклонение» в приведенном ниже тексте Достоевского, и что-то укоряющее самих себя появится в нас, так недавно переживших культ личности: «Правда, как ни ослеплены вы, как ни подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви вашей ложь, наваждение, что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили в нем вашей страстностью, вашим первоначальным порывом... то, уже разумеется... сомнение тяготит вас, дразнит ум... мешает жить вам с излюбленной вами мечтой. И что ж, не помните ли вы... чем вы тогда вдруг утешились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи... страшно... грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому что она разрешила первое сомнение ваше?..» (26; 26–27).
Если вернуться к значению метафорического образа «человек-вошь» в сверхценной «наполеоновской» идее Раскольникова, то это оказывается сопряжено с нравственным облегчением решимости на убийство. Не так ли необоснованно, бездумно и зловеще использовались понятия «враг народа», «кулак», «изменник», предатель», «диссидент», «психически больной» и т. п. для «упрощения» ситуации и формирования смертоносных, античеловеческих идей, оправдывающих беззаконие и злодеяния?
Таким образом, универсальность вскрытого Достоевским психологического механизма развития человеческих заблуждений, в том числе достигающих и уровня болезни, очевидна. Этот же механизм в разных вариациях используется им для воссоздания логических заблуждений в «идее-чувстве» тех своих героев, у которых она становится «сверхценной». Особенности формирования «идеи-чувства» в период созревания личности мы находим в романе «Подросток».
Идея «ротшильда» подростка Аркадия Долгорукого, порожденного «случайным семейством», незаконного сына родного и законного «сына» приемного отца, одновременно сравнима и несравнима с «наполеоновской» идеей Раскольникова. Наполеон и Ротшильд – олицетворение двух ипостасей владычества над миром: подчинение власти сверхчеловека, преступающего через нравственность, и власти денег. У героев обоих романов альтруистические и эгоистические мысли и эмоции тесно переплетены и органично входят в сконструированную ими «идею-чувство».
Сами идеи на уровне социальном вполне сравнимы. Как отметил Н. Н. Вильмонт, в них соединены «мстительная ненависть к тем, кто их унизил и изуродовал, и преступная решимость „наполеоновской“ или „ротшильдовской“ ценой приобщиться к тем „счастливцам“, кто „не унижен, а, напротив, сам унижает“».[48]
С другой стороны, Раскольников и Долгорукий различаются по возрасту или, скорее, периоду формирования личности. Раскольников – созревший теоретик, фанатик им же сочиненной теории. Подобно Ивану Карамазову, Раскольникову «надо не миллион, а надобно мысль разрешить». В отличие от «фанатика» Раскольникова Долгорукий еще ищущий. Для него конструируемая и прозреваемая с самых общих, наивных позиций идея богатства есть прежде всего путь к самостоятельности, к обеспечению положения в жизни. Недаром он с детским восторгом восхищается идеей Крафта: «Я бы на вашем месте, когда у самого такая Россия в голове, всех к черту отправлял: убирайтесь, интригуйте, грызитесь про себя – мне какое дело» (13; 60).
Несмотря на то что изложение идеи Аркадия занимает целую главу романа, его объяснение, как и зачем «стать богатым именно как Ротшильд», представляет собой набор нечетких мыслей, противоречивых эмоций и по-детски наивных поступков. Более того, самому подростку понятно, что вышло у него это объяснение мелочно, грубо, поверхностно и даже как-то моложе его лет, тривиально и пошло.
Юношеская неуравновешенность и максимализм волевых процессов, мало увязанных с наименее лабильными эмоциями и отрывочными, несистематизированными понятиями, типичны как для «идеи-чувства», так и для отношений личности подростка. Инфантильная незрелость понятийно-логической стороны идеи зла очевидна. Тривиальны ключевые ее позиции: «упорство и непрерывность», наивно их олицетворение: нищие богачи, ходящие в отрепьях и просящие милостыню, несмотря на имеющийся капитал. Прямолинейны два вывода формулы: «упорство в накоплении даже копеечными суммами впоследствии дает громадные результаты» и самая нехитрая и непрерывная форма наживания «обеспечена в успехе математики».