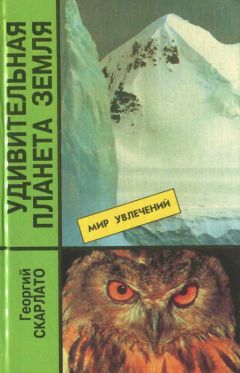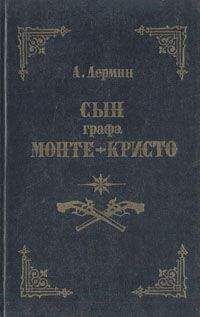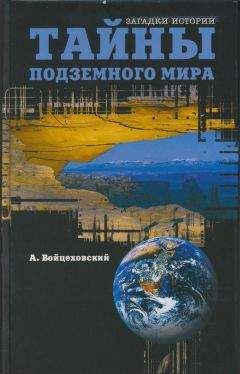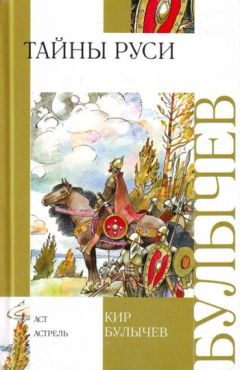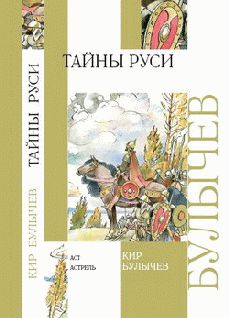Александр Гротендик - УРОЖАИ И ПОСЕВЫ
(40). Размышляя над этим сном, я написал (по-английски) длинное письмо одному из своих прежних друзей-математиков, в те дни заглянувшему ко мне мимоходом. Я не виделся с ним почти десять лет, и эта встреча с дорогим, давним другом навеяла мне немало мыслей и воспоминаний. Некоторые из них, безусловно, помогли мне в работе: по ним, как по ступенькам, сон поднялся из небытия и вернулся ко мне таким живым и настоящим, что дух захватывало. Случилось так, что в первый день работы я, вопреки всему своему предыдущему опыту, вообразил, будто явившаяся мне греза предназначалась не мне, а моему другу. Я рассудил, что он, а не я, должен воплотить эту мечту! Но таким образом я лишь пытался переложить ответственность за будущее мечты на чужие плечи. Весть пришла ко мне, на конверте был написан мой адрес - а я всерьез собирался подбросить его соседу. В конце концов я это понял - через ночь после того, как первый, весьма поверхностный этап моей работы, все-таки завершился. На другой день я вернулся к своим размышлениям и продолжил письмо. Его адресат, когда-то один из самых близких моих друзей, с тех пор ни разу не навещал меня и не писал мне.
Это была для меня особенная, единственная в своем роде медитация - в письме, да еще по-английски! Сейчас я не смог бы в точности восстановить ее ход: письмо я отправил, так что никаких записок не сохранилось. Я не раз убеждался в том, что малейшее упоминание о работе, выходящей за некие общепринятые рамки, часто сбивает с толку и даже пугает людей. Казалось бы, в таком труде нет ничего необычного: он открывает дорогу к самым простым, очевидным вещам. Но есть факты, которые большинство людей считают своим долгом не замечать; заговорить о них вслух - верный способ вызвать всеобщее замешательство. Эта история с письмом-размышлением - на мой взгляд, один из самых ярких тому примеров. Я возвращаюсь к этому позднее (см. §47, «Путешествие в одиночестве»).
Примечания
( ). Сказать, что из чтения Кришнамурти я не извлек для себя ничего, кроме набора красивых слов и надуманной позы, заслонившей от меня живую реальность, было бы не совсем точно. Первая же книга Кришнамурти, попавшаяся мне на глаза, меня по-настоящему поразила (хоть я и прочел из нее всего лишь несколько первых глав). Она перевернула с ног на голову мои представления о мире, которые я всегда считал само собой разумеющимися. И я понял, что в моем кругу они с незапамятных времен представляли собой общее место - сам того не замечая, я просто вдыхал их вместе с воздухом. В то же время эта книга впервые заставила меня обратить внимание на некоторые чрезвычайно важные факты: в первую очередь на то, что в нашем сознании работают механизмы, побуждающие нас бежать от реальности, и мощное действие этих двигателей рассудка можно наблюдать повсеместно. Это дало мне необходимый ключ к пониманию ситуаций, до тех пор неизменно ставивших меня в тупик и (как я понял пятью-шестью годами позже, с открытием медитации) тем самым рождавших во мне тревогу. Оглядевшись по сторонам, я тут же убедился в том, что так оно и есть: люди и впрямь бегут от действительности. В какой-то мере это наблюдение принесло мне душевный покой, но по сути ничего не изменилось: ведь все, что я видел, я видел в других, а не в себе. Я воображал, будто во мне (естественно, а как же иначе) ничего этого нет, считая себя эдаким исключением, подтверждающим правило (и нимало не задумываясь о том, откуда же берутся столь примечательные исключения). Во мне не было настоящего любопытства к тому, что происходит в человеческой душе, в том числе и в моей собственной. «Ключ», который я позаимствовал у Кришнамурти, в моих руках не мог ничего открыть: ведь у меня не было истинного, горячего желания проникнуть внутрь. Он стал для меня лишь удобной игрушкой, подспорьем в словесных упражнениях, а для моей новообретенной позы - неотъемлемым атрибутом.
И лишь в начале 1974 г. я впервые согласился признать очевидное: что раздорам и разрушениям в моей жизни, столько лет следовавшим за мной по пятам, не могли быть причиною только другие. Что-то во мне должно было служить им источником, поддерживать их, навлекать на меня беду со стороны. В тот момент, раскрыв, наконец, глаза и отказавшись от мифов о своем духовном величии, я был готов принять обновление. Но я еще не мог далеко продвинуться на этом пути:
Примечания
я не знал, что для этого нужно трудиться. Я не сумел тогда нащупать и описать словами это «что-то во мне», истинный источник моих несчастий. Точнее, я понимал: моя беда в том, что мне не хватает любви. Но то было лишь неясное ощущение недостатка - что это за любовь, как именно она изменила бы мою жизнь, я не мог догадаться. Ответ на эти вопросы могла дать только работа, но тогда мне это и в голову не приходило. Советы не помогли бы: никто вокруг меня и не помышлял о таких вещах, да и в книгах, включая Кришнамурти, об этом не говорилось. (Напротив, К. предпочитал настаивать на тщете любого труда, автоматически отождествляя его с «желанием стать, а не быть».) Итак, с моей заимствованной «мудростью» в роли всеведущего проводника, мне оставалось лишь одно: терпеливо ждать, когда «любовь» сама снизойдет на меня с небес, как милость Господня.
Вконец обессиленный, я ждал; энергия души иссякла, волна пошла вниз. Но спад влечет за собой подъем: ведь я узнал о себе самом скромную истину, которая оказалась источником новых сил и вскорости вынесла меня на гребень новой волны - едва ли не столь же мощной, как та, что два с половиной года спустя увлекла меня с собою в мою первую медитацию. Через несколько месяцев, когда спасительный случай приковал меня к постели, я стал задумываться о многих вещах (и записывать свои мысли). Тогда я впервые пересмотрел свои представления о мире, на которых основывались мои отношения с людьми вокруг. Это были взгляды, которые перешли ко мне от родителей (в первую очередь, от матери); прежде я никогда не пытался выразить их словами. Поразмыслив об этом, я ясно понял, что представления эти оказались несостоятельными: они не соответствовали действительности, не знали развития и движения и заведомо не могли служить прочной основой для моих отношений с другими. Правда, рассуждал я все еще «в духе Кришнамурти», на том же языке и опасаясь каких-либо усилий на пути к пониманию - настоящего труда в этом не было. И все же, кое-что для меня тогда прояснилось: то, о чем я несколько месяцев назад лишь смутно догадывался, облачилось в слова и стало знанием - вернуться к прежнему неведению я уже не мог. Это знание я никогда не почерпнул бы из книг, и никто на свете не мог бы мне его передать.
Для того чтобы перейти в медитацию, моему размышлению не хватало тогда вполне определенных черт. Исследуя свое представление о мире, я позабыл бросить взгляд и на свое представление о себе самом,
Примечания
пересмотреть более полную систему аксиом, в которой я сам фигурировал бы «во плоти». Но этого мало: медитируя, всегда держишь в поле зрения себя самого в настоящий момент, следишь, как чувства сменяют друг друга в твоей душе по мере того, как бежит раздумье. Если бы я научился этому тогда, в 1974 г., я тут же заметил бы и влияние чужого стиля, и даже потворство собственным слабостям (в буквальном смысле), пронизывавшее мои записки: из-за этого в них не хватало искренности, естественности. Однако это размышление, несмотря на все его недостатки (и на то, что в моих отношениях с другими оно само по себе не многое изменило), представляется мне важным этапом, отправной точкой на пути к обновлению. Два года спустя я пошел именно по этой дороге и продвинулся намного дальше. Тогда-то я и открыл медитацию, внезапно столкнувшись с тем обстоятельством, что во мне самом есть нечто неизвестное - и оно звало за собой. Оказалось, что в моей собственной душе есть вещи, которые можно открывать и исследовать, и эта новость определила течение моей жизни на много лет вперед. И в то же время сама природа моих отношений с людьми ожила и стала преображаться…
(42). Обстоятельства были и впрямь «чрезвычайные»: в конце 1969 г. я вдруг узнал, что мой институт (с которым я к тому моменту сроднился так, что чувствовал себя от него неотделимым) частично финансировало министерство обороны. С моими тогдашними (да и нынешними) представлениями о морали это было несовместимо. Вслед за этим событием чередой явились другие, и каждое открывало мне глаза на то, что творилось у меня под носом. В конце концов я ушел из IHES: причин накопилось достаточно. И постепенно мой круг общения, как и род занятий, переменились до неузнаваемости.
В те памятные годы, когда IHES еще только зарождался как научная организация, Дьедонне и я были единственными его членами. Мы вдвоем обеспечивали ему аудиторию в научном мире: Дьедонне издавал «Математические записки» (первый том вышел в 1959 г., на следующий год после того, как Леон Мочан основал IHES), а я проводил «Семинары по алгебраической геометрии». Положение института в первые годы его существования было весьма ненадежно: не было ни постоянного источника средств (IHES держался тогда лишь щедростью нескольких компаний-меценатов), ни помещения - если не считать зала, который