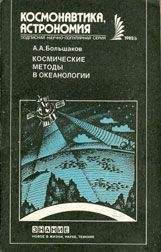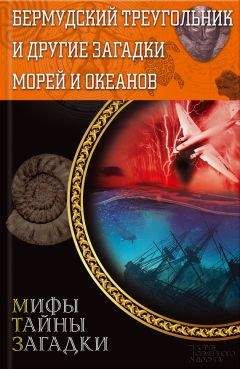Хавьер Фресан - Мир математики: m. 35 Пока алгебра не разлучит нас. Теория групп и ее применение.
26
в стенографии. Неудивительно, что хозяева нашего домика сочли меня шпионом, и на меня завели досье в комиссариате Хельсинки. Об этом я узнал лишь тогда, когда русские начали бомбить финскую столицу. Я был задержан, и у меня нашли подозрительные приглашения на свадьбу дочери Бурбаки. Меня вполне могли расстрелять. Рольф Неванлинна двадцать лет спустя рассказал, как было дело: на ужине, куда он был приглашен как полковник резерва, к нему подошел начальник полиции и заявил: «Завтра мы расстреляем шпиона, который заявил, что знаком с вами». Узнав, что речь шла обо мне, Неванлинна уговорил начальника полиции смягчить наказание и выслать меня из страны.
На границе меня передали в руки шведским властям, которые репатриировали меня во Францию, а там я был помещен в Руанскую тюрьму за дезертирство. Для абстрактной науки нет ничего лучше тюремного заключения: в первом письме к семье — я знал, что его прочитает весь мир,— я дал понять, что покончу с собой, если мне не создадут необходимых условий для работы. Меня перевели в одиночную камеру, где всегда было достаточно бумаги и ручек. Мне кажется, Картан мне завидовал: как-то он написал, что «не всем нам повезло работать так, как тебе, чтобы нас никто не беспокоил». Летом 1940-го я был освобожден из тюрьмы и приписан к шербургской роте, которая занималась тем, что каждый день грузила гаубицы на железнодорожной станции. Как видите, я, скорее, простой дезертир. Не будем обманываться: я никогда не верил в категорический императив. Всеобщая модель поведения не может существовать, ибо жизнью каждого правит его дхарма: Гоген нашел свою дхарму в живописи, я — в математике.
ЛЕВИ-СТРОСС: А я-то думал, что математики всегда первыми вступают в ряды революционеров.
ВЕЙЛЬ: Верно другое: каким бы ни был правящий режим, работа математиков слишком сложна для непосвященных, чтобы ее можно было критиковать. Если мы сохраним единство наших рядов, то будем неуязвимы. Некоторые из коллег по группе Бурбаки сыграли весьма заметную роль в политике. К примеру, Анри Картан предложил амбициозную задачу — достичь примирения между Францией и Германией после окончания Второй мировой войны. На решение этой задачи он бросил все силы и уже в 1946-м организовал первые совещания в Обервольфахе — маленьком городке в Шварцвальде.
Можно быть уверенным — без Картана сегодня не существовало бы Европейского математического общества. Вспомните моего друга Лорана Шварца, еще одного члена группы Бурбаки. Я не знал более опытного переговорщика, чем он. Ему удалось сохранить независимость от властей и в то же время получить высочайшие награды от глав самых разных стран.
27
Он написал книгу воспоминаний под названием «Математик против века». Это явное преуменьшение — он сам и был веком. Шварц сыграл важнейшую роль в движении против войны во Вьетнаме, а до этого — в «деле Одена»[4]. Моя сестра, которая с распростертыми объятиями принимала любого, кто хоть как-то напоминал еврея, коммуниста или диссидента, очень гордилась им.
ЛЕВИ-СТРОСС: Как быстро пролетело время! Во время войны во Вьетнаме я уже совершенно отошел от политики. Оно и к лучшему: я не думаю, что мой тезис о том, что без правил нет общества, был бы популярен у тех, кто вышел на улицы с лозунгами «Запрещено запрещать».
ВЕЙЛЬ: Вы правы, мы зашли слишком далеко. Это совершенно излишне, когда впереди — целая вечность. Быть может, вы объясните мне, почему вы променяли Платона на дикарей.
ЛЕВИ-СТРОСС: После того как я прослушал полный курс философии, логичным было начать подготовку к конкурсу на должность университетского преподавателя. Но после пяти лет в Сорбонне я мечтал не об этом: я устал вновь и вновь механически сочетать похоже звучащие слова, например, «форма» и «фон» или «суть» и «сущность». Это была чистая комбинаторика вне зависимости от темы. Мы, группа бунтарей, прекрасно это понимали и наловчились применять этот метод в спорах о превосходстве трамваев над автобусами. Тем не менее получить должность было непросто: требовалось прочесть уйму книг в короткие сроки; то была своего рода гонка с препятствиями по различным философским доктринам. Я до сих пор не могу понять, как мне удалось занять пост преподавателя. Между прочим, вместе со мной на должность претендовала и ваша сестра, она осталась седьмой, я — третьим, что было еще более непостижимо.
Я провел первый год в должности профессора в институте Мон-де-Марсана, столицы Ланды. Должен признаться, я был счастлив: я недавно женился, готовился к занятиям на ходу, все было ново и волнительно, но на следующий год я пришел в ужас от того, что этот же самый курс я буду читать до конца жизни. Мой разум — не знаю, к счастью или к несчастью — подобен разуму людей неолита: после того как я очистил поле и вырастил на нем урожай, мне хочется предать его огню и отправиться на поиски новых земель. Мне тяжело дважды обратить взор на один и тот же предмет, и любое повторение приводит меня в ужас. Кроме того, я был уверен, что моя
28
жизнь полностью определена: после свадьбы у нас родились бы дети, и я с семьей постепенно переехал бы в один из кварталов на окраине Парижа. Но нет! Именно тогда, осенью 1934 года, в девять часов утра в воскресенье раздался спасительный телефонный звонок. Я помню этот момент так ясно, словно это было вчера. Мне позвонил директор Высшей нормальной школы Селестин Бутле и предложил должность преподавателя социологии в Университете Сан-Паулу. Ответ требовалось дать до полудня.
ВЕЙЛЬ: Но вы не работали в Высшей нормальной школе.
ЛЕВИ-СТРОСС: Я тоже удивился этому звонку. К тому времени я рассказал нескольким друзьям, что готов преподавать за границей — тогда это было еще не так модно, как сейчас. Преподаватели не особенно любили путешествовать, и я допускаю, что претендентов на должность было немного. Директора не волновало, что я не работал в Высшей нормальной школе. Между прочим, когда-то я хотел поступить в Нормальную школу, но чувствовал, что не дотягиваю до товарищей по подготовительным курсам, которых считал поистине недосягаемыми. Мне не давался древнегреческий, и я счел, что смогу избежать его, если выберу курс по одной из наук. В итоге я попал на курс по математике, и мое положение только ухудшилось. Прошел год, и я решил оставить курсы и поступить в университет. Мой преподаватель считал, что я предназначен не для философии, а для какой-то из смежных наук, и нельзя сказать, что он был неправ. По его мнению, моим призванием была юриспруденция, но в итоге — кто бы мог подумать! — я посвятил себя этнографии.
ВЕЙЛЬ: В те годы философы шли в этнографию целыми рядами.
ЛЕВИ-СТРОСС: Именно. Этнология была почти не представлена во французских университетах, поэтому я получил должное образование благодаря усилиям тех немногих, кто занимался этой наукой. Многие из моих преподавателей, как и я, были самоучками. Тем не менее у нас были и предшественники: к примеру, Рабле и Монтень обращались к основам этнографии при анализе верований и обычаев своего времени. Однако лишь в конце XVIII века было создано Общество наблюдателей за человеком, в котором собрались натуралисты, всегда готовые предпринять далекое путешествие, чтобы изучить мифы и обычаи других народов подобно тому, как биологи изучают диковинных животных или растения. Им недоставало лишь метода включенного наблюдения, наблюдения изнутри, который был создан британской школой лишь в начале XX века. Мое любопытство пробудила старая книга антрополога Роберта Генриха Лоуи, который жил в разных племенах североамериканских индейцев и спустя много лет помог мне найти пристанище в Нью-Йорке.
29
Клод Леви-Стросс.
30
Леви-Стросс в экспедиции в Бразилии.
31
Ранее я не испытывал такой тяги к приключениям: да, мне нравилось ходить в походы, заниматься альпинизмом и даже находить приключения в городе вместе с группой друзей. Мы выбирали направление и точку на карте Парижа, после чего шли к ней по прямой линии, не сворачивая. С нами происходили прелюбопытнейшие случаи, которые, однако, были не особенно важными. Прочтя книгу Лоуи «Первобытное общество», я вскоре захотел отправиться в далекое путешествие, чтобы познать мир. Если бы мне предложили отправиться в Новую Каледонию, я согласился бы не раздумывая.
ВЕЙЛЬ: Кто бы мог подумать, ведь ваши «Печальные тропики» начинаются со слов: «Мне ненавистны путешествия и исследователи». Как хорошо, что вам пришлось по душе это приключение!
ЛЕВИ-СТРОСС: Господин Вейль, когда мы говорим о «Печальных тропиках», следует кое-что отметить: я много лет не хотел писать эту книгу. Моя последняя экспедиция в Бразилию состоялась в 1939 году, а работать над книгой я начал только в 1934-м. Когда я вернулся из путешествия, у меня было совсем немного времени на то, чтобы влиться во французскую жизнь, прежде чем меня мобилизовали.