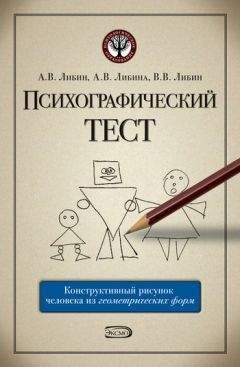Годфри Харди. - Апология математика
Насколько можно было судить по образу, нарисованному Аланом Сент-Обином, Флауэрс был довольно славным малым, но даже я, совсем ещё неискушённый мальчишка, не мог признать его умным. Но коль скоро он мог проделывать всё, о чём говорилось в романе, то почему бы всё это не проделать и мне? Особенно по вкусу мне пришлась заключительная сцена в профессорской, и с тех пор, покуда я не добился своего, заниматься математикой для меня стало означать стать младшим членом Тринити-колледжа".
Заняв первое место на публичных экзаменах по математике - знаменитом Математическом Треножнике[33], часть II, Харди в возрасте 22 лет стал младшим членом Тринити-колледжа. Причём две превратности судьбы его всё же подстерегали. Первая носила религиозный характер в истинно викторианском духе. Харди решил (думаю, ещё до того, как он покинул Уинчестер), что не верит в Бога. К такому заключению Харди пришёл в своём духе, приняв "чёрно-белое" решение, ясное и чёткое, как и всё, что выношено его мышлением. Посещение капеллы в Тринити носило обязательный характер. Харди сообщил ректору, несомненно, в своём неподражаемом стиле застенчивой непреклонности, что он сознательно намерен отказаться от посещения церкви. Ректор, должно быть, человек находчивый, настоял, чтобы Харди написал своим родителям и сообщил им о своём решении. Они придерживались ортодоксально религиозных взглядов, и ректор, а тем более Харди, знал, что такая новость причинила бы им боль - такую боль, которую мы, живущие семьдесят лет позднее, не можем себе даже представить.
Харди пришлось пережить муки совести. Он не был достаточно искушён для того, чтобы вскользь упомянуть о столь важной проблеме. Он не был достаточно искушён даже для того, чтобы (как он поведал мне однажды в Феннерзе[34], когда рана ещё не зажила окончательно и давала о себе знать) последовать совету более опытных друзей, таких как Джордж Тревельян[35] и Джесмонд Маккарти, которые знали, как следует поступить. Наконец, он написал письмо родителям. Отчасти из-за этого инцидента вопрос о религиозности и неверии остался для Харди открытым и достаточно острым. Он всегда отказывался посещать церковь при любом колледже даже по такому формальному поводу, как выборы ректора. У Харди были клерикальные друзья, но бог был его личным врагом. Во всём этом явственно слышалось эхо XIX века, но было бы ошибкой, как всегда в случае Харди, не верить тому, что Харди говорит о самом себе.
Но и свои разногласия с Богом Харди превратил в шумный спектакль. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы мне довелось видеть, как Харди наслаждается небольшим триумфом. Это случилось во время матча против игроков на знаменитом крикетном стадионе "Лордз"[36] в Лондоне. Игра происходила ранним утром, и солнце светило над павильоном. Один из бэтсменов, игравший за команду, которой солнце светило в спины, пожаловался, что его слепит отражение от какого-то блестящего предмета. Озадаченные судьи, приложив руки козырьком ко лбу, принялись осматривать зрительские места и ближайшие окрестности. Автомашины? Нет. Окна? Но поблизости от крикетной площадки нет ни одного здания! Наконец, с понятным торжеством один из судей обнаружил предмет, дававший яркие блики: оказалось, что солнце отражалось от большого наперсного креста на груди рослого священника. Судья вежливо попросил его снять крест. Оказавшийся поблизости Харди был вне себя от охватившего его мефистофельского восторга. Когда наступило время ленча, Харди было не до еды: он безостановочно одну за другой заполнял открытки (открытки и телеграммы были его излюбленными средствами сообщения), извещая всех своих клерикальных друзей о происшествии.
Но в войне Харди против Бога и суррогатов Бога победа не всегда была только на одной стороне. Однажды примерно в тот же период в тихий прекрасный майский вечер мы играли в крикет на площадке в Феннерзе, когда до нас донеслись удары колокола, пробившего шесть часов. "Какое несчастье, - заметил Харди с присущей ему прямотой, - что некоторые из счастливейших часов моей жизни я вынужден проводить под звуки римско-католической церкви".
Второе происшествие, нарушившее мирное течение студенческой жизни Харди, было связано с его будущей профессией. Почти со времён Наполеона и на протяжении всего XIX века в Кембридже царил культ доброго старого Математического Треножника. Англичане всегда с бо?льшим доверием, чем другие народы (за исключением, возможно, имперских китайцев), относились к состязательным экзаменам. Англичане, проводившие такие экзамены, нередко проявляли поразительную косность (чтобы не сказать одеревенелость). Такое положение дел сохранилось и поныне. Но в полной мере это проявилось в отношении Математического Треножника, когда эти экзамены переживали период своего расцвета. Задачи, предлагавшиеся на этих экзаменах, в техническом плане представляли собой значительные трудности, но, к сожалению, они не давали возможность кандидату проявить своё математическое мышление, интуицию или какое-нибудь другое качество, необходимое творчески работающему математику. Претенденты на первые места (так называемые ранглеры - этот термин, утвердившийся за ними и действующий поныне, означает "первый (т.е. высший) класс") располагались в соответствии с полученными оценками в строго "арифметическом" порядке. Те из колледжей, чьи питомцы становились старшим ранглером, устраивали празднества, первые два или три ранглера немедленно избирались членами колледжей.
Всё это было очень по-английски. Математический Треножник обладал только одним недостатком, на который Харди указал с присущей ему полемической ясностью, как только стал знаменитым математиком и вместе со своим верным союзником Литлвудом включился в борьбу за отмену такой системы: Математический Треножник на протяжении более чем двух столетий разрушал в Англии серьёзную математику.
В первый же свой семестр в Тринити Харди оказался вовлечённым в систему Математического Треножника. Его готовили к экзаменам, как готовят к состязаниям скаковую лошадь, с помощью серии специально подобранных математических упражнений, бесполезность которых была ему ясна в его девятнадцать лет. Харди направили к знаменитому тренеру - репетитору, готовившему всех потенциальных старших ранглеров. Этот тренер знал все препятствия, все трюки экзаменаторов, но проявлял полнейшее равнодушие к самому предмету. Против этого восстал бы и молодой Эйнштейн: он либо покинул бы Кембридж, либо не выполнил бы ни одной формальной работы в течение ближайших трёх лет. Но Харди родился в более суровом профессиональном климате Англии (что имело как свои положительные, так и отрицательные стороны). После размышлений на тему, не стоит ли ему сменить математику на историю, Харди достало здравого смысла подыскать себе в качестве наставника настоящего математика. Харди воздаёт ему должное в "Апологии": "Глаза мне открыл профессор Ляв[37], который учил меня несколько семестров и дал мне первое серьёзное представление о математическом анализе. Но более всего я признателен ему за то, что он, будучи по существу прикладным математиком, посоветовал мне прочитать "Курс анализа" Жордана[38]. Я никогда не забуду то изумление, которое охватило меня при чтении этой замечательной книги, ставшей источником первого вдохновения для столь многих математиков моего поколения, и я впервые понял, что такое математика в действительности. С тех пор я стал и остаюсь поныне - на свой собственный лад - настоящим математиком со здравыми математическими амбициями и подлинной страстью к математике".
В 1898 году Харди стал четвёртым ранглером. Как он неоднократно признавался, это вызвало у него слабую досаду. Природный дух состязательности, в достаточной мере присущий Харди, заставлял его считать, что хотя сама "гонка" смешна, он обязан её выиграть. В 1900 году Харди принял участие в части II Математического Треножника, экзаменах более почтенного уровня, завоевал первое место и был избран членом Тринити-колледжа.
С того времени жизнь Харди протекала по существу в раз и навсегда установленном русле. Харди знал свою цель - наведение строгости в английском математическом анализе. Он ни на йоту не отклонялся от исследований, которые называл "огромным непреходящим счастьем моей жизни". Не было никаких сомнений или беспокойства по поводу того, что ему предстоит сделать. Ни он сам, ни кто-нибудь другой не сомневались в его большом таланте. В возрасте тридцати трёх лет Харди был избран членом Королевского общества[39].
Во многих отношениях Харди сопутствовала удача. Ему не нужно было заботиться о своей карьере. С тех пор, как ему исполнилось двадцать три года, у Харди было достаточно досуга, и он никогда не нуждался в деньгах. В начале 1900-х годов дон[40] - холостяк из Тринити-колледжа мог чувствовать себя вполне комфортно. Харди знал счёт деньгам и расходовал их, когда, по его мнению, это было необходимо (иногда деньги тратились по довольно необычным "статьям", например, на пятидесятимильные поездки на такси), но когда речь заходила об инвестициях, Харди нельзя было считать человеком не от мира сего. Он играл в свои игры и оплачивал свои эксцентрические эскапады. Харди вращался в одном из лучших в мире интеллектуальных кругов: Д. Э. Мур[41], Уайтхед[42], Бертран Рассел[43], Тревельян, высшее общество Тринити, которое вскоре нашло художественное дополнение в Блумзбери[44]. (У Харди установились в Блумзбери отношения личной дружбы и симпатии.) И в этом блестящем кругу Харди был одним из самых блестящих молодых людей - и, хотя это и не бросалось в глаза, одним из самых неугомонных.