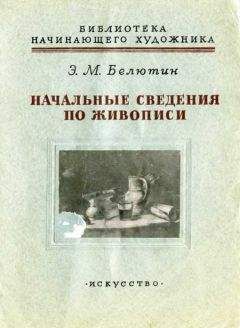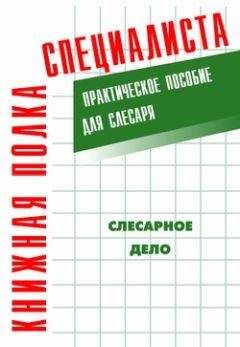Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба
ЗГ: Означает ли это, что вы лично и другие представители белорусской оппозиции полностью порвали с церковью и ее официальными лицами?
ВБ: Именно это и произошло. Мы потеряли доверие к этим агентам российской церкви, и, безусловно, сотрудничество с ними стало невозможным: почти все они, за небольшим исключением (я уже упомянул, оно всегда присутствует), стали прислуживать своему церковному и нашему общему светскому начальству.
ЗГ: Хорошо. Но в конце-то концов священники — всего лишь люди, «ничто человеческое им не чуждо», и потому они так же грешны, как и все. Они называют себя служителями Бога, но в действительности они ведь всего лишь учителя. Нельзя винить Создателя за поступки его порочных, невежественных или просто неправедных учителей. Думается, что нет ничего общего между существованием Бога и личным поведением священников. Есть хорошие и плохие преподаватели в любой области человеческой деятельности, не правда ли?
ВБ: Я не согласен с таким подходом. Всемогущий, предоставив нам свободу выбора, сам стал, по сути, безгласен и общается с людьми через своих представителей, называйте их как хотите, — адвокаты, учителя или священники. Следовательно, разочаровавшись в этих божьих представителях и не зная таинств и обрядов общения с Господом, мы, верующие, теряем необходимую нам возможность прийти к Богу и быть услышанными.
ЗГ: Несмотря на серьезность сказанного, следует признаться, что я все еще не уверена в таком подходе, простите… Этот аргумент выражает ваше общее отношение ко всем мировым религиям или только к их служителям?
ВБ: Пожалуйста, поймите меня правильно. У меня никогда не было намерений переосмысливать или переоценивать роль христианства в истории человечества. Я полностью осознаю его положительное влияние, но в то же время я не закрываю глаза и на его негативные стороны. В этом же направлении я думаю и о положительном влиянии основных принципов каждой мировой религии, будь то буддизм, иудаизм, христианство или ислам. Я всегда относился с искренней почтительностью и терпимостью к главным принципам каждой религии и никогда не изменю этому подходу к религии в целом. Но это в отношении к религии и к Богу. К служителям любой религии у меня отношение иное, и зависит оно от каждого отдельного случая. В то же время я знаю, что каждый свободен искать свой путь к Богу. В этих поисках хороший учитель, адвокат или служитель Бога (а не просто церкви) оказывается незаменим.
ЗГ: Это я понимаю. А как же тогда быть с Львом Толстым и его религиозными исканиями?
ВБ: Лев Толстой был конечно же выдающимся христианином. И именно по этой причине церковь отлучила его от себя.
ЗГ: Я думала, что он был отлучен от церкви прежде всего из-за попытки переписать Евангелие.
ВБ: Верно — а для чего эта попытка? Из стремления найти истину. Кстати, Толстой выучил древнегреческий, именно чтобы перевести Евангелие заново: он подозревал, что священники исказили оригинал в своих переводах, и был прав.
ЗГ: Есть книга американского теолога, Элэйн Пэйгелс, в которой она называет много разных Евангелий, бывших в ходу, в то время как только четыре из них были взяты в Новый Завет. Согласно ее работе, таких Евангелий были сотни. А эти четыре были выбраны прежде всего из-за общности их духа. Сходство историй или даже время, когда Евангелия были написаны, не было главным принципом для духовенства, вовлеченного в составление Нового Завета.
ВБ: Зачем далеко ходить? Новый Завет переведен на современный белорусский сейчас. И он снова стал яблоком раздора. Еще я слышал, что где-то в Канаде кто-то переводит Библию на белорусский язык. Вы в курсе?
ЗГ: Архиепископ Миколай из Торонто, ему далеко за восемьдесят. Владыка Миколай никогда не задавался целью перевести всю Библию полностью, но он самостоятельно и в течение многих лет переводил отдельные фрагменты Библии, которые ему были необходимы при богослужениях. Он также составил из своих переводов белорусский служебник, которым до сих пор пользуются в Торонто[428].
ВБ: Да, архиепископ Миколай. Я не знал, что он человек в возрасте.
ЗГ: Это невероятный человек! А главное в нем — доброта, богатый интеллект и острый ум. Такой пастырь вам бы понравился.
ВБ: Несомненно. Ну, дай ему Бог… Мой хороший знакомый, Василь Семуха[429], занимался переводом в Беларуси. Он отличный лингвист и превосходный переводчик[430]. Православные священники во главе с Филаретом конечно же не приняли его работу. А с другой стороны, чего можно было ожидать в подобной ситуации? Человечество могло бы согласиться с текстом — я имею в виду, какой-то один канонический вариант мог бы быть признан повсеместно, если бы у текста имелся автор. Но так как мы в любом случае имеем дело с апокрифами, споры неизбежны. Кроме того, языковой состав Библии очень разнообразен, и каждый язык имеет свои специфические особенности…
ЗГ: И обычный-то перевод — не такое простое дело…
ВБ: Ваши слова мне напомнили одну старую шутку. Стихотворение Гейне было переведено на английский, испанский, французский и русский. А потом переводчик, используя все эти переводы, перевел стихотворение на китайский. Содержание оригинала было таким: чудесное раннее утро, пруд, лилии на воде и некая чудесная девушка, скажем, по имени Лорелея, очарованная лучами утреннего солнца, заявляет о своей готовности отдать жизнь за красоту этого мира. По-китайски перевод звучал примерно так: чудесная девушка, по имени У-Дзи-Джу, очарованная лучами утреннего солнца, заявляет о своей готовности отдать жизнь за красоту учения великого Мао.
ЗГ: Не слишком веселая шутка…
ВБ: Дело в том, что перевод — действительно сложное дело, и в самом лучшем случае он может только приблизиться к оригиналу.
* * *
ЗГ: Вы сказали чуть раньше, что собственная жизнь видится вам постоянным чередованием белых и черных полос. Повороты судьбы — их вообще можно предвидеть?
ВБ: Не думаю… В моей личной судьбе перемены — всегда сюрприз. Порой я наблюдаю и описываю такие же неожиданные перемены не только в отдельной человеческой судьбе, но и в истории нашего народа. Я глубоко убежден в том, что человеческая и историческая судьба взаимозависимы, и не раз писал об этом. В нашем случае все это какой-то бесконечный парадокс. Ведь непоследовательность и противоречия царствуют у нас повсюду. Когда происходят неожиданные перемены исторической судьбы, которые невозможно было предсказать или оценить, что же человеку ждать от его личной судьбы? По крайней мере, у нас. Наша жизнь и наша история в этом отношении сильно отличаются от западной, где многое уже предопределено. Запад, конечно, прошел в прошлом через множество катаклизмов, но сейчас там положение более или менее устаканилось. Более или менее[431]. А у нас, с другой стороны, все еще полный хаос. Эти постоянные встряски сказываются и на личной судьбе, и на общественной.
ЗГ: А на литературном процессе?
ВБ: Как ни парадоксально, в нашем обществе литература остается в выигрыше. Эти бесконечные противоречия и конфликты нашей жизни — не только хлеб с маслом и для искусства в целом, и для литературы в частности, но еще и двигательная, притягательная сила для читателей: люди, которые не знают, куда обратиться в тяжелые времена, как правило, обращаются к литературе.
ЗГ: Это правда. С одной стороны, славянские литературы достаточно дидактичны и нравоучительны по своей природе. А с другой, несмотря на то что большинство так или иначе пребывает в поисках «сладкой жизни», бессобытийное существование не пробуждает интереса к искусству.
ВБ: Изобразительное искусство иллюстрирует эту особенность очень хорошо: возьмем реалистический образ — скажем, натюрморт, — который предельно точно и тщательно выписан. Это искусство? Нет, конечно. Художник должен привнести некий хаос в эту картину: бросить что-то на пол, нарушить ясность и безжизненность композиции, добавить какие-то необычные краски. Только тогда у картины появляется шанс стать интересной или считаться произведением искусства.
То же справедливо и в отношении литературы. Эта азбучная истина никогда не доходила до советских руководителей. Еще со времен Ленина вожди требовали от писателей изображать в своих работах что-то вроде этих натюрмортов. Каждый герой произведения должен был обладать исключительно положительными чертами характера, чуть не сверхчеловеческими: образцовые родители должны были иметь исключительно хороших детей, которые, вырастая, становились бы точно такими же деятельными и инициативными, как и их правильные родители. Короче говоря, только в том случае, когда главный герой представлял собой добродетели социалистического общества и в социальном, и личном плане, произведение считалось хорошим. Нашим руководителям просто не под силу было понять, что литература не работает таким образом. У нас было немало писателей, которые искренне пытались воплотить эту безумную идею в жизнь, называя ее соцреализмом, но их произведения, несмотря на тяжелый труд и старания, всегда оказывались несостоятельными.