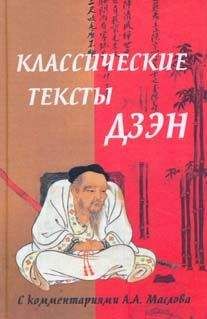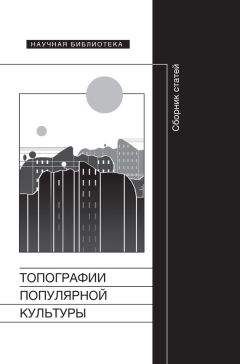А. Белоусов - Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты
Бьёрлинг заметила, что «Детство Люверс» повествует о том, как девочка постигает смысл слов «мама беременна» и свою собственную 'женственность' (см.: Bjorling 1982, 148). Добавим, что этот смысл открывается через посредничество 'Перми-Медведицы-Аксиньи'. В этой связи, я думаю, не покажется чрезмерно произвольным предположить, что одной из дополнительных мотиваций этой связи на уровне формально языковом послужила анаграмматическая близость имен: «ПЕРМь» – «БЕРЕМенность».
Мотивология 'Перми-медведицы' позволяет раскрыть еще один содержательный нюанс повествования – подспудную связь Жени Люверс с Аталантой. Сюжет о деве-воительнице, вскормленной медведицей (см.: Иванов, Топоров 1994,130), во-первых, был очень близок Пастернаку как вариация его личной мифологии женственного (см.: Жолковский 1994) а во-вторых, досконально знаком. В 1910-е годы Пастернак много занимался Суинберном, в частности, драмой «Аталанта в Калидоне». Эпиграфом из Суинберна он открыл книгу «Поверх барьеров», позднее Аталанта появилась в цикле «Разрыв», также близком по времени написания к повести. Таким образом, весьма вероятно, что Женя Люверс, открывшая галерею пастернаковских героинь[291], через мотив ребенка, вскормленного медведицей, ассоциировалась у Пастернака с Аталантой.
Суммируя сказанное о белой медведице, можно утверждать, что значительный сектор мотивного поля повести оказывается экспликацией семантики 'Перми'. Медведица персонифицирует Пермь в ее архаической материнской ипостаси. Таким образом, начальную фразу повествования мы можем читать как 'Люверс была рождена и вскормлена Пермью-медведицей и это предопределило ее судьбу'.
Правда, остается неясной семантика имени Люверс. Незначимых имен у Пастернака нет[292]. Поэтому возникает вопрос, существует ли здесь такая же крепкая связь между именем героини повести и местом, где она родилась и выросла, как между Уралом и Парой в «Докторе Живаго»? Имя героини тщательно разбирал Фарыно, но его выводы не кажутся окончательными. Он опирался, в частности, на отдаленные немецкие и французские аналоги, хотя слово люверс вошло отдельной статьей в словари Даля и Фасмера. Это морской термин, заимствованный из голландского и обозначающий крепежную петлю на парусе[293].
То есть имя Люверс этимологически связано с двумя полями значений: путешествий и швейно-текстильным, что вполне соответствует общей семантике повести, где ряды путешествия и швейно-текстильный действительно играют значительную роль. Это повесть о том, как работает над человеком, ребенком, жизнь, как она его «зиждет, ладит и шьет» (Пастернак 1991,38). 'Люверс', или петля, которой крепится парус, есть нечто, существующее не для себя, а для того, чтобы другое в себе вмещать, впускать, содержать и собою крепить. Такое понимание смысла имени отвечает содержанию повести.
Если же мы обратимся к локальному коду повести, то в соотнесении с 'Пермью-Белой медведицей', имя Люверс откроет еще одну грань своего значения. Достаточно очевидным и существенным для прочтения повести Пастернака выглядит один из вариантов анаграмматической инвертации имени героини: ЛюВЕРС – СЕВЕР Не думаем, что такой ход в интерпретации текста можно счесть только за натяжку. Дело в том, что 'север' – действительно значимый и системный элемент топологии пастернаковского мира. В мире Пастернака 'север' присутствует как топос сказочного, магического, связанный с вдохновением и творчеством. Словами Пастернака, север у него – это страна «наитий».
Скорее всего, таким ощущением севера мы обязаны скальдическим и шаманским ассоциациям Пастернака: «Эдду // Север взлелеял и выявил // Перлом предвечного бреда» (Пастернак 1965, 168; см. также: Баевский 1980). И следует отметить, что в семантическом комплексе 'Перми' Пастернак отчетливо различал присутствие архаического финского субстрата, в русской культуре традиционно связанного с магическим и стихогенным началом[294]. Поэтому мотив 'севера' (и метонимичных по отношению к нему 'зимы', 'снега', 'метели', 'бурана', 'холода') у Пастернака часто влечет за собой мотивы экстатических состояний сознания. Сошлемся на пример из лирики: «Я смок до нитки от наитий, II И север с детства мой ночлег. II Он весь во мгле и весь – подобье II Стихами отягченных губ» (Пастернак 1965; 168).
Возвращаясь к повести, отметим, что проявленная анаграммой связь героини с ‘севером’ мотивирована локусом ее рождения. Люверс родилась и выросла в Перми, а Пермь для Пастернака —это несомненный и даже сугубый север. Именно так она атрибутируется в повести: Сквозь гардины струился тихий СЕВЕРный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался СЕдым. Тяжело и СуРоВо грудилось СЕРебро (Пастернак 1991, 36). Северные мотивы акцентированы в близких по времени к повести уральских стихах Ледоход и Урал впервые (Пастернак 1965; 87). То же в стихотворении На пароходе: шелест листьев был как бред» и далее: «седой молвой, ползущей исстари, // Ночной былиной камыша // Под Пермь, на бризе, в быстром бисере // Фонарной ряби Кама шла» (Пастернак 1965, 103). Здесь единство мотивов ‘севера’, ‘экстатических состояний сознания’ и ‘творчества’ проявлено отчетливо и в прямой связи с Пермью.
'Магически-северная' пермская компонента имени Люверс широко проявлена в повести: в эпизодах андерсеновской снежной ночи в Екатеринбурге и чтении «Сказок Кота Мурлыки»[295], в самой распространенности определения «сказочный»[296]. В свою очередь, линия 'магической' мотивики повести тесно сплетается с той, что описана выше, 'медвежьей': Люверс – девочка с 'магического севера' – семантически производна от'Перми-белой медведицы', и тогда мотив ребенка, вскормленного медведицей, получает дополнительную мотивировку в семантике сказки.
То, что «белая медведица» шагнула в повесть с пермского герба, можно утверждать определенно. Более осторожно предположим, что влияние пермской геральдики этим не ограничилось. Напомним ее описание: «В красном поле серебреной медведь, на котором поставлено в золотом окладе Евангелие; над ним серебреной крест, означающие, первое: дикость нравов, обитавших жителей, а второе: просвещение через принятие Христианского закона» (ДРВ, 226).
Рассмотрим комплекс значений – медведь, книга, крест – и преображение одного через другое. Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, парадигмальная емкость этой композиции знаков. Локальный сюжет и конкретный смысл включены в градацию универсальных оппозиций: земное – небесное, плотское – духовное, природное – культурное, языческое – христианское. Во-вторых, герб не статичен. Он включает идею взаимодействия разных начал и поэтому предрасположен к превращению в рассказ со столь же универсальным смыслом трансформации, преображения, перемены.
Потенциальная нарративность герба подтверждается примерами его толкования, включая приведенный выше. «Какой замечательный герб! – комментировал его, например, пермский протоиерей Е. Попов. – Как живо он напоминает о св. Стефане Пермском, который просветил евангельским светом диких язычников, занимавшихся звероловством!» (Попов 1879, 52). Забавный вариант буквального пересказа пермской геральдики есть у Михаила Осоргина в очерковом цикле «Московские письма». Характеризуя «смутные представления европейцев» о жизни «далекой восточной окраины» России, Осоргин уверял, что ему приходилось слышать, как «одна наивная француженка» рассказывала, что в Перми «по единственной улице города ходят белые медведи, да еще с книгой на спине». Француженку, как предположил Осоргин, «привел в заблуждение герб губернии» (Осоргин 1901).
Пастернака герб в заблуждение, конечно, не вводил. Но геральдическая символика Перми перекликалась с его размышлениями о преображении как онтологической основе развития личности. Так случилось, что пермский герб своей структурой и значением компонентов наглядно и лаконично представил схему онтологии жизни, близкую интуиции Пастернака. В будущем этот круг мыслей развернется в «Докторе Живаго». Но сначала он отразился в повести о девочке, которая «родилась и выросла в Перми». И в ключевых моментах история Люверс построена по модели пермского герба: от «первобытного младенчества» – через испытание, страдание и поучение – к принятию христианской заповеди любви к ближнему.
Каждому элементу пермского герба есть соответствие в повествовании. О 'медведице' сказано достаточно. Мотив 'книги' и, шире, учительного слова варьируется в обширном ряде эпизодов повести. И прежде всего ключевых, связанных с «обращением» Люверс. Цветкова, встреча с которым переменила ее сознание, она впервые увидела в окружении воспитанниц с таинственной книгой, большой, как альбом или атлас. Эпизод встречи завершился тем, что девочка забыла на улице томик Лермонтова, с которым вышла на прогулку. Этот, лермонтовский, мотив вернулся в финале повествования. Узнав о гибели Цветкова, Женя решительно заявила учителю, что не будет сегодня «этого отвечать», и томик «демонического» Лермонтова вернулся «назад в покосившийся рядок классиков» (Пастернак 1991, 86). Лермонтов отправлен на полку потому, что со смертью Цветкова девочка окончательно приняла в себя смысл евангельских слов о ближнем: «Впечатление <…> было неизгладимо <…> в ее жизнь впервые вошел другой человек, третье лицо <…> то, которое имеют в виду заповеди <…> «Не делай ты, особенный и живой, – говорят они, – этому, туманному и общему, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь»» (Пастернак 1991, 86). Этим обращением, эквивалентным крещению, завершился рассказ о детстве Люверс.