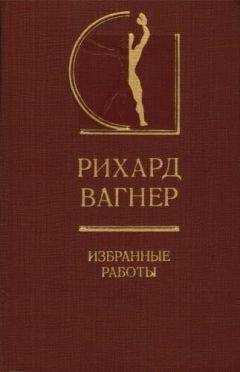Дмитрий Калюжный - Другая история войн. От палок до бомбард
Пожалуйста, мы можем предложить еще один вывод: хронология древности (античности) неверна. Да и что такое «древность» в понимании средневекового автора? Вот, Лев Дьякон в Х веке пишет:
«…Древний император Никифор тоже был убит мисянами, только Константин Копроним победил мисян, а вслед за ним — его внук Константин, сын императрицы Ирины, и уже в наше время император Иоанн покорил их города. История не сохранила упоминаний о каком-либо ином из ромеев, победившем мисян на их земле».
А комментатор поясняет читателю, что Лев называет Никифора I древним в противоположность Никифору Фоке. Но к власти «древний» Никифор пришел в 802 году, свергнув тут же упомянутую императрицу Ирину. А сам Лев Дьякон родился около 950 года. Так что всей древности — около двухсот лет.
По «византийской» волне нашей синусоиды Х век Византии попадает на линию № 6, и, кстати, интересно, что «История» Льва Дьякона сохранилась только в двух рукописных списках: Парижском 1712 года, и Эскориала, который дословно повторяет Парижский. В список включен ряд авторов, и Лев Диакон лишь один из них, — и он охватывает события, как считается, от конца Х века, и почти до конца XV века. Датировка у авторов идет от Сотворения мира.
До создания единой шкалы времени было еще почти сто лет, и кто сводил этих авторов, как и по какому принципу выстраивал историю — загадка. На последних страницах, относящихся к 1422 году, есть запись:
«От сотворения мира до сегодняшнего дня хотят считать 5353 года, но мы, как христиане, хотим считать, что имеется уже полных 7000 лет». В этом — основа для возможного хронологического сдвига на 1647 лет.
Лев VI Мудрый (886–912), автор «Тактики», в качестве древних авторов называет Элиана, Арриана и Онасандра (писатели той же линии № 6), но не упоминает Псевдо-Маврикия, «нового», по словам В. Кучмы, автора, хотя его трактат якобы послужил основным источником:
«…Лев, упоминая свои заведомо второстепенные источники, не называет ни разу главного („Стратегикона Маврикия“, — Авт.)».
Таким образом, мнение, кто у кого списывал (Лев у Псевдо-Маврикия или Псевдо-Маврикий у Льва), зависит только от хронологии. По сути (с чем согласен и В. Кучма), авторы «Стратегикона» и «Тактики» в известном смысле современники, ибо имели дело почти с одними и теми же исходными данными, какими были материально-техническая база и характер людских ресурсов византийского войска. Но в традиционной истории эти тексты разделяют 300 лет!
«Между „Стратегиконом“ и „Тактикой“ имеется длительный хронологический перерыв. Но между этими трактатами не ощущается сколько-нибудь значительного логического перерыва», —
уверяет нас В. Кучма. Если один написан в конце XIV, а другой в начале XV века, — как это следует из «византийской» волны синусоиды, — то в этом нет ничего удивительного. Удивительна тенденциозность историка. Ведь далее В. Кучма пишет:
«Исключение устаревших понятий Псевдо-Маврикия и его исторических сравнений — другой метод переработки Львом материала „Стратегикона“… Так, мы не находим у Льва упоминания Псевдо-Маврикия об аварах, „турках“, персах и римлянах, скифах и т. д. Упоминание этих народов было бы явным анахронизмом для рубежа IX–X вв.»
Во-первых, как мы уже сказали, не ясно, кто кому предшествовал, а потому нельзя судить, были ли там вообще «устаревшие» понятия. Во-вторых, какие же названия, по мнению В. Кучмы, устарели для X века? Персы? Римляне? Да ведь византийцы только римлянами себя и называли! В-третьих, открываем книги других историков и с интересом узнаем, что сочинения ромейских писателей наполнены «архаизмами», «историческими реминисценциями» и т. п.
Наша синусоида работает почти безукоризненно по отношению к военно-историческим трактатам. Так, стратегемы Фронтина, автора I века н. э. (линия № 6) находят среди дополнений Павла Диакона, автора X века (линия № 6) к сочинению Евтрония, а также в главном этическом сочинении Policraticus английского богослова XII века Иоанна Солсберийского (та же линия № 6 «византийской» волны).
«Теория тактики» Элиана, жившего на рубеже I и II веков н. э. (лини № 7) «изучалась на протяжении тринадцати столетий и пережила свое второе рождение в период позднего средневековья» (XV век, линии № 7).
Нередко выводы, которые делает В. Кучма в своей книге о византийских войнах, противоречат всем известным утверждениям военных практиков. Так, он пишет, что «судьбу сражения могли решить удары даже немногочисленных кавалерийских частей, если им удалось войти в непосредственное соприкосновение с пехотными подразделениями», — это при том, что, считается, до XIV века конники не воевали с пешими. Но удивительнее всего следующая сентенция:
«…Если попытаться проследить истоки всех военно-научных концепций, когда-либо появлявшихся на византийской почве, все они в конечном счете приведут к „Стратегикону“ [Маврикия] — не только потому, что он предшествует остальным византийским военным трактатам по времени, но и потому, что он оказался выше их по уровню… Поэтому „Стратегикон Маврикия“, открывший перспективу развития византийской военной науки, остался и высшим достижением в этом развитии».
Какую «перспективу», в каком развитии он открыл? На основании чего делает историк свой вывод?..
Почему-то у наших оппонентов всегда получается одна и та же картина: то, что всему предшествует, оказывается и выше остального по уровню, «открывает перспективу». Выдумки и словоблудие, вот чем занимаются историки, а не анализом эволюции различных категорий общественной жизни.
То пишут, что пехота в русской армии традиционно играла значительную роль. То сообщают, что:
«…в XIV и XV столетиях (русские) войска состояли почти исключительно из кавалерии, так что пехота рядом с ней совершенно пропадала, и ее даже не вводили в расчет войсковых частей, а присчитывали только при случае».
(Брикс)Рассуждая об органичном (эволюционном) развитии военного дела, мы отмечали, что пехота, способная противостоять коннице, появилась в Западной Европе в XIV веке. Но можно сделать вывод, что зарождение пехоты в Византии (сначала двоеборцев Александра Македонского, а потом и греческой фаланги, и римских когорт) произошло уже в XII или XIII веке. И, возможно, процентное соотношение между кавалерией и пехотой у «татаро-монголов» совпадает с оным у греко-римлян Византии!
В нашей версии развитие военной науки приобретает естественный вид. После периода варварских драк между племенами, в составе самих племен выделились специальные люди, из числа элиты, образовавшие первичные воинские структуры. Применение коня в военных действиях, когда не было еще огнестрельного оружия, дисциплины, развитых приемов боя, быстро показало, что конные воины сильнее, хотя бы потому, что масса удара у них выше, чем у пеших. Началась эволюция рыцарских войск, но свой путь проделало и мастерство пеших воинов. Со временем появление новых видов оружия и освоение пехотой новых приемов боя привело к исчезновению рыцарства как основного рода войск.
С рыцарства началась эволюция военных структур. А в традиционной истории рыцарство являет собою лишь средневековое преломление античных воинских забав!
От рыцарской конницы к кавалерии
В своей книге «История рыцарства» Ж. Ж. Руа относит начало рыцарства к X–XI векам, в крайнем случае — к VIII веку. Это, в общем, довольно давно сформировавшееся мнение историков-медиевистов. Однако исторические писатели не стесняются применять слово «рыцарь» к древности. Герои Гомера — рыцари, персы — рыцари… В книге Ф. Шахермайра «Александр Македонский» разноплеменные «рыцари» рассыпаны по всем страницам, будто горстями. И не только в этой книге, а и во многих других.
Не удивительно, что Ф. Кардини предложил рассматривать военное дело народов-всадников, начиная с IX–VIII веков до н. э. Во всяком случае, он пишет:
«Парфяне и сарматы стали применять тяжелую кавалерию… Всадник и его конь были теперь закрыты латами. Высокий остроконечный шлем защищал голову конного воина. Атакующее оружие — длинное тяжелое копье и меч. Ряд вооруженных таким образом конных воинов сминал толпы легковооруженного противника. Сарматы без особого труда разбили скифов в черноморских степях, парфяне остановили наступление римских легионов, отбросив их от Тигра и Евфрата».
Мы выделили в этой цитате слово «теперь»: из него следует, что древние парфяне и сарматы уже задолго до появления тяжелой кавалерии имели воинские структуры, в том числе конные. Стало быть, и армейские структуры, и воинское искусство, и производство оружия и доспехов, — все прошло в Азии и в апеннинском Риме свой эволюционный путь. Парфяне, сарматы, персы, греки, римляне воевали со своими соседями, и у тех, естественно, тоже сложилась армия, развились стратегия и тактика, появилось оружие и доспехи.