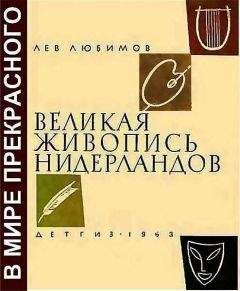Людмила Черная - Антропологический код древнерусской культуры
Открытость культуры переходной эпохи обеспечивала широкий разброс поиска новых жанров, формирование их взаимоотношения внутри складывающейся жанровой структуры Нового времени, их будущую соподчиненность и иерархию. Свобода поиска жанровой новизны приводила авторов к созданию внежанровых произведений и смешению разных жанров, недопустимому в стабильной фазе развития культуры. Возникают мемуары («Записки Ивана Желябужского», воспоминания кн. Куракина и др.), плутовской роман («Повесть о Фроле Скобееве» и пр.), орации (например, речи Симеона Адамовича, рассчитанные на письменную фиксацию), подражания фольклорным жанрам (песни Квашнина-Самарина) и мн. др. Какая-то жанровая анархия царит в культуре, делая ее еще более привлекательной и значимой.
В искусстве также наблюдается масса новых явлений. Появившаяся в начале XVII в. «парсуна»[696] была одним из них, поскольку портрет хотя и умершего, но все же современника, определенного человека с только ему присущими индивидуальными чертами был переходным этапом к созданию портрета как такового. Широко известны парсуны царя Феодора Иоанновича, легендарного полководца Смутного времени князя М. В. Скопина-Шуйского. Написанные подобно иконам на небольших досках, они показывают только лицо персонажа, но это уже персонифицированное изображение. Вскоре появились и «живописцы», ставившие перед собой задачу отражать «аки зерцало» живую жизнь в живоподобной светловидной манере письма, о чем уже говорилось. Хорошо известны имена русских живописцев, специализирующихся на портретах, монументальной светской живописи (роспись хором, триумфальных арок, театральных декораций и т. п.). В 1696 г. их вместе с учениками насчитывалось по расходной окладной книге Оружейной палаты двадцать три человека.[697]
Вместе с иностранными художниками (Детерсоном, Вухтерсом) работали русские мастера. Григорий Одольский (Отдальский) лишь однажды назван автором своего произведения, портрета воеводы И. Е. Власова (1694–1695 гг.; Нижегородский художественный музей), хотя по документам он значился автором многих портретов.[698] По документам Оружейной палаты устанавливается авторство Михаила Чоглокова, писавшего портреты семейства Нарышкиных в 1680—1690-е гг., однако дошедший до нашего времени портрет Льва Кирилловича Нарышкина не подписан, что оставляет вопрос об авторе открытым. Долгие годы руководил живописцами Иван Безмин, обучивший целую плеяду художников, но только предположительно с ним и его учениками связывают портрет Феодора Алексеевича и другие произведения.
Живописцы постоянно выполняли самые разнообразные царские заказы по обслуживанию массовых зрелищ типа триумфальных или карнавальных шествий. То они раскрашивают огромного двуглавого орла, то расписывают полковые знамена, то строят арки, то гравируют военные карты, пишут «оружейные клейноты» и т. п. Среди них были и заказы на изображение петровских «шутов», участников «всешутейшего и всепьянейшего собора», заказанные Екатериной I вскоре после смерти императора. Три из них овальные поясные (Ивана Щепотева, Веригина, солдата Бухвостова), два прямоугольного формата (Алексея Васикова и Андрея Бесящего). Новым в искусстве было и появление портретистов, начавших специализироваться на эмалевых миниатюрных портретах.[699] Используемые в качестве наградных знаков финифтевые портреты Петра I целыми партиями поступали из Оружейной палаты в армию в годы Северной войны. Писавшие их художники – Иван Рефусицкий, Григорий Мусикийский, Андрей Овсов и др. – были портретистами, писавшими также и по холсту. Однако работа художника за портрет маслом на холсте стоила в среднем в три раза дешевле, чем работа по финифти. Возможно, что оценка искусства миниатюриста, явно завышенная по сравнению с оценкой мастерства станковиста или монументалиста того времени, сказалась и на авторском реноме художников. Они начали помечать свои работы на обороте, причем А. Овсов подписывал их в транскрипции латинскими буквами (на известном портрете Екатерины I сохранилась надпись: «1725 hoDu PisaL Andrei ofsof»). Г. Мусикийский, создававший парные и групповые портреты царской семьи, вынес свое имя с оборотной стороны на лицевую, что прослеживается в ряде его работ, в частности на конном портрете Петра Великого 1719 г.
Одним из самых ярких показателей работы принципа новизны было, вероятно, смешение стилей, наблюдаемое и в архитектуре, и в искусстве, и в литературе. Исследователи давно заметили, что русское барокко переходного периода не совсем барокко, что в нем присутствуют элементы и традиционно средневековые, и отголоски ренессансной культуры, и маньеризма, и предклассицизма.[700] Чистота барокко в его формальном проявлении несколько увеличивается в русской поэзии, драматургии и ораторской прозе, смело использующих практически все средства поэтики барокко. Богатые и изощренные формы предлагала барочная поэзия, представленная творчеством Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Евфимия Чудовского, Сильвестра Медведева и других. Создается впечатление, что все внимание поэтов сосредоточено на силлогизмах, аллегориях, эмблемах и символах, а не на содержании произведения, зачастую отнюдь не новом. Можно встретить стихи, оформленные в виде креста, сердца, звезды, пасхального яйца и пр. Широкое распространение получает искусство анаграммы, когда на основе программа – некоего предложения – создается путем перестановки букв ряд новых предложений, сопровождаемых стихотворениями. Шифрованные стихотворные записи, акростихи и тому подобные приемы прочно входят в арсенал русского поэта переходного времени, служат показателем его мастерства и приверженности к новизне. Содержательная же сторона барочной поэзии резко отличается от решения подобных сюжетов и тем в западноевропейском барокко. Отечественный вариант барокко лишен того трагизма и агрессии, которые столь характерны для других его вариантов. Тема смерти и внутренней борьбы личности не доминирует у наших поэтов, исповедающих барокко, в то время как в европейской культуре она является центральной. Русские авторы берут из арсенала барокко в основном внешние его атрибуты: риторические приемы, аллегорические и символические выразительные средства, эмблематику, курьезные формы (серпантинный стих, анаграммы и т. п.) в поэзии и драматургии; декор, ордерные элементы и центрическую композицию в архитектуре; формальные заимствования в декоративно-прикладном и музыкальном искусстве. Попытки увидеть в Петре Великом «человека барокко», воплотившего в себе «стиль эпохи», не представляются бесспорными.[701] Сущность барокко как стиля эпохи осталась для русской культуры за семью печатями, что закономерно, поскольку содержание переходной эпохи не было барочным, а между тем опыт барокко не был освоен своевременно и наложился на чуждый ему смысловой пласт в русской культуре.
Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский подчеркивали, что оппозиция старое—новое тяготела к оппозиции свое—чужое,[702] так как новизна ассоциировалась со всем тем, что было ранее запретно, в особенности с заграничным, считавшимся «поганым» и отвергавшимся православным сознанием. Естественно, что поиски нового были обращены в сторону чужих и чуждых культур, что новое обрело как бы географический характер. В своей среде новое и не пытались искать, уверовав в непреодолимую тягу русских к старине, в исконную традиционность своей культуры.
Барокко было столь же привлекательной новизной, как и ренессансные идеи и формы, как и развивающийся в Европе классицизм.[703] Так, в росписях и лепном декоре пригородных дворцов Петра I, А. Д. Меншикова, Б. П. Шереметева и других вельмож обнаруживается эклектическое сочетание элементов классицизма и барокко. Известный пример стилесмешения в архитектуре – Сухарева башня в Москве. В постройках так называемого «московского барокко» – церквях Спаса в Уборах, Покрова в Филях, Бориса и Глеба в Зюзине и др. – замысловатые изгибы белокаменного декора, картуши, восьмигранные окна, колонны и полуколонны соединяются с сомкнутыми сводами внутри храмов, не соответствующими стилю решениями внутреннего пространства. Кажется, что эти сооружения были ориентированы на чисто внешнее их восприятие, восприятие, не до конца свойственное архитектуре, а скорее характерное для любования вещами чисто декоративными. Восторг узнавания нового, вызываемый белокаменным декором, лепниной, великолепными лестницами и т. д., должен был компенсировать стилевую неполноту. Внутри храмов главный акцент переместился с икон на раму иконостаса, его пышную барочную резьбу. Эволюция иконостаса в XVII в., прослеженная рядом специалистов,[704] свидетельствует о постоянно нарастающей декоративности последнего, о переходе от плоскостной резьбы к объемной, как будто открытая культурой пространственная глубина уводит привыкшую к плоскости линию вглубь, а затем боязливо возвращает ее в исходное положение. В декоративно-прикладном искусстве наблюдается еще большая свобода в соединении несоединимого: архаичный растительный орнамент с вязью может идти по краю блюда, в центре которого аллегорическое изображение времен года с геральдической композицией борьбы льва и единорога (деревянное блюдо из собрания ГИМ); «звериный стиль» дополняется барочными картушами с амурчиками, уносящими сердца от многоглавой гидры (костяной рожок для нюхательного табака из собрания ГИМ) и др.[705] Подобные эклектичные изделия можно встретить на каждом шагу, однако и мастера, их создававшие, и заказчики, и пользователи не чувствовали в них подвоха, потому что и те и другие ориентировались на новизну как принцип существования любого явления культуры своего времени.