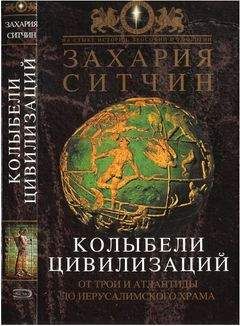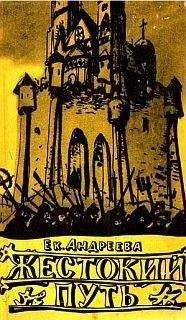Михаил Бахтин - Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса
В таком же карнавально-праздничном духе разработана и остальная часть этого загробного видения. Писатель Жан Лемер (глава школы риториков), бывший при жизни врагом пап, в преисподней играет роль шутовского папы. Кардиналами при нем состоят бывшие шуты – Кейетт и Трибуле. Бывшие цари и папы целуют Жану Лемеру туфлю, а он приказывает своим кардиналам наградить их побоями.
Дело не обходится и без ритуальных снижающих жестов. Когда Ксеркс, торгующий горчицей, запрашивает за нее слишком дорого, Виллон мочится в его горчицу. Персфоре мочится на стену, на которой изображен «огонь святого Антония». За это кощунство вольный стрелок из Баньоле, ставший в преисподней инквизитором, хотел сжечь его живьем.
Пир, как мы сказали, обрамляет весь эпизод. Как только Эпистемон кончил свой рассказ:
«Ну, а теперь давайте есть и пить, – сказал Пантагрюэль. – Прошу вас, друзья мои, – нам предстоит кутить весь этот месяц».
Во время пира, к которому Пантагрюэль и его спутники немедленно приступают, решается судьба побежденного короля Анарха: Пантагрюэль и Панург принимают решение уже здесь, на земле, подготовить его к тому положению, которое он, как царь, будет занимать в преисподней, то есть приучить его к низкому ремеслу.
В главе XXXI изображается карнавальное развенчание короля Анарха, о котором мы в свое время уже говорили. Панург переодевает короля в шутовской наряд (наряд подробно описан, причем отдельные его особенности Панург мотивирует с помощью игры слов) и делает продавцом зеленого соуса. Таким образом, это карнавальное развенчание должно воспроизводить те, какие совершаются в преисподней.
Остается подвести некоторые итоги нашего анализа.
Образ преисподней в данном эпизоде носит ярко выраженный народно-праздничный характер. Преисподняя – это пир и веселый карнавал. Мы здесь находим и все знакомые нам снижающие амбивалентные образы обливания мочой, избиения, переодевания, ругательства. Движение в низ, присущее всем раблезианским образам, приводит в преисподнюю, но и образы самой преисподней преисполнены того же движения в низ.
* * *Преисподняя в раблезианской системе образов есть тот узловой пункт, где скрещиваются основные магистрали этой системы – карнавал, пир, битвы и побои, ругательства и проклятия.
Чем объясняется такое центральное положение образа преисподней и в чем его миросозерцательный смысл?
На этот вопрос нельзя, конечно, ответить путем отвлеченного рассуждения. Необходимо, во‑первых, обратиться к источникам Рабле и к той традиции изображения преисподней, которая тянется через все средневековье и находит свое завершение в литературе Ренессанса, во‑вторых, вскрыть народные элементы в этой традиции и, в‑третьих, наконец, понять значение как этой традиции, так и самого образа преисподней в свете больших и актуальных задач эпохи Рабле.
Но сначала несколько слов об античных источниках. Вот античные произведения, дающие образы преисподней: XI песнь «Одиссеи», «Федр», «Федон», «Гордиас» и «Государство» Платона, «Сон Сципиона» Цицерона, «Энеида» Вергилия и, наконец, ряд произведений Лукиана (главное из них «Менипп, или Путешествие в загробное царство»).
Рабле знал все эти произведения, но о сколько-нибудь существенном влиянии их, за исключением Лукиана, говорить не приходится. Однако и влияние Лукиана обычно сильно преувеличивается. На самом же деле сходство между «Мениппом, или Путешествием в загробное царство» и разобранным нами эпизодом Рабле ограничивается чисто внешними чертами.
Преисподняя и у Лукиана изображена, как веселое зрелище. Подчеркнут момент переодевания и перемены ролей. Картина преисподней заставляет Мениппа сравнивать и свою человеческую жизнь с театральным шествием.
«И вот, глядя на все это, я решил, что человеческая жизнь подобна какому-то длинному шествию, в котором предводительствует и указывает места Судьба, определяя каждому его платье. Выхватывая кого случится, она надевает на него царскую одежду, тиару, дает ему копьеносцев, венчает голову диадемой; другого награждает платьем раба, третьему дает красоту, а иного делает безобразным и смешным; ведь, конечно, зрелище должно быть разнообразным!»
Положение сильных мира сего – бывших царей и богачей – в преисподней Лукиана то же, что и у Рабле:
«И еще сильнее рассмеялся бы ты при виде царей и сатрапов, нищенствующих среди мертвых и принужденных из бедности или продавать вяленое мясо, или учить грамоте; а всякий встречный издевается над ними, ударяя по щекам, как последних рабов. Я не мог справиться с собой, когда увидел Филиппа Македонского: я заметил его в каком-то углу – он чинил за плату прогнившую обувь. Да, на перекрестках там не трудно видеть и многих других, собирающих милостыню, – Ксеркса, Дария, Поликрата…»
При этом внешнем сходстве какое глубокое различие по существу между Рабле и Лукианом! Смех у Лукиана абстрактный, только насмешливый, лишенный всякой подлинной веселости. От амбивалентности сатурналиевых образов в его преисподней почти ничего не остается. Традиционные образы обескровлены и поставлены на службу отвлеченной моральной философии стоицизма (к тому же выродившейся и искаженной поздним цинизмом). И у него бывшие цари награждаются ударами: их бьют «по щекам, как последних рабов». Но эти удары – бытовое битье рабовладельческого строя, перенесенное в преисподнюю. От сатурналиевого амбивалентного образа царя-раба почти ничего не осталось. Удары эти – просто удары, лишенные всякой зиждительной силы: они ничему не помогают ни родиться, ни обновиться. Такой же односмысленный бытовой характер носят и пиршественные образы. У Лукиана в преисподней тоже едят, но еда эта не имеет ничего общего с раблезианской. Бывшие цари ею не могут наслаждаться, но и бывшие рабы и бедняки ею также не наслаждаются. В преисподней просто едят, но там никто не пирует; не пируют и философы, они только смеются – голо-насмешливо – и издеваются над бывшими царями и богачами. В этом – главное: материально-телесное начало у Лукиана служит целям чисто формального снижения высоких образов, служит простой бытовизацией их; оно почти вовсе лишено амбивалентности, оно не обновляет и не возрождает. Отсюда и глубокое различие между Рабле и Лукианом в тоне и в стиле.
Во главе средневековой традиции изображения преисподней нужно поставить так называемый «Апокалипсис Петра». Это произведение было составлено одним греком в конце I или в начале II века нашей эры; это – сводка античных представлений о загробном мире, но приспособленная к христианскому вероучению. Самое произведение это не было доступно средневековью [205], но оно определило «Visio Pauli» («Видение Павла»), составленное в IV веке. Различные редакции этой «Visio» были очень распространены в средние века и оказали существенное влияние на могучий поток ирландских легенд об аде и рае, сыгравших громадную роль в истории средневековой литературы.
Среди ирландских легенд о преисподней особое значение имеют те, которые были связаны с «Дырой св. Патрика». Отверстие это вело в чистилище. По легенде, оно впервые было показано богом св. Патрику, жившему в V веке. Около середины XII века монах Анри де Сальтре изобразил спуск в чистилище одного рыцаря в своем «Трактате о чистилище святого Патрика». Около этого времени было написано и знаменитое «Видение Тунгдала». Тунгдал после своей смерти совершил путешествие в преисподнюю, но затем вернулся в мир живых, чтобы рассказать людям о тех ужасных зрелищах, которым он был свидетелем. Эти легенды возбуждали необычайный интерес и вызвали к жизни целый ряд произведений: «Чистилище святого Патрика» Марии Французской; «О презрении к миру» папы Иннокентия III; «Диалоги св. Григория»; «Божественная комедия» Данте.
Образы загробных видений, заимствованные из «Видения Павла», переработанные и обогащенные могучей кельтской фантазией, необычайно разрослись и детализировались. Особенно резко усилились гротескные образы тела. Увеличилось и количество грехов и способов наказания (с семи до девяти и даже больше). В построении самых образов загробных мук без труда можно прощупать специфическую логику ругательств, проклятий и брани, логику телесно-топографических отрицаний и снижений. Эти образы мук часто организованы, как реализация метафор, заключенных в ругательствах и проклятиях. Тело терзаемых грешников дается в гротескном аспекте. Очень часто выступает явственно связь с пожиранием; некоторых грешников жарят на вертеле, других заставляют пить растопленные металлы. Уже в «Видении Тунгдала» Люцифер изображен прикованным цепями к раскаленной решетке очага, на котором он поджаривается; при этом сам он пожирает грешников.
Существовал особый круг легенд о преисподней, связанных с образом Лазаря. Согласно одной древней легенде, Лазарь во время пира Христа у Симона Прокаженного, рассказал о виденных им тайнах загробного мира. Существовала проповедь псевдо-Августина, в которой подчеркивалось исключительное положение Лазаря, как единственного из живых, видевшего загробные тайны. И в этой проповеди Лазарь рассказывает о своих загробных видениях во время пира. В XII веке теолог Пьер Коместор также выдвигает это свидетельство Лазаря. В конце XV века эта роль Лазаря приобретает особое значение, и фигура Лазаря проникает в мистерии, но особенно широкое распространение пиршественный рассказ Лазаря получил благодаря включению его в популярные массовые календари.