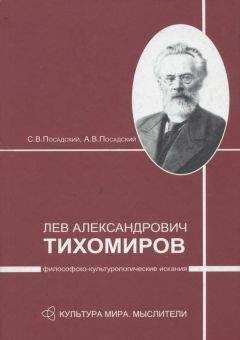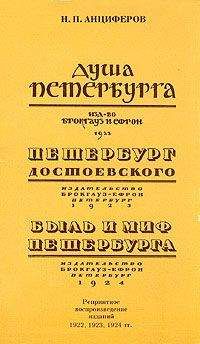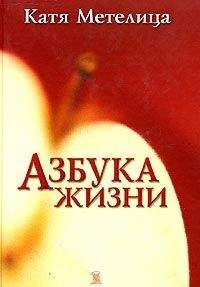Дмитрий Спивак - Метафизика Петербурга. Историко-культурологические очерки
«Ленинградский текст»
Кристально чистое выражение мифа о Петрограде как «колыбели революции» дал В.В.Маяковский в своих поэмах «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», написанных соответственно в 1924 и 1927 годах (то есть уже после переименования города в Ленинград). Заглавие поэмы «Хорошо!» дополнено авторским уточнением «Октябрьская поэма», позволяющим предположить, что мысль о задании жанрового канона была, по всей видимости, автору не чужда. Петроград революционных лет виделся поэту как арена огромной мистерии, уничтожившей ветхие «город и мир», вернув их в «начало времен» и сообщив им если не бессмертие, то жизнь, решительно преображенную. «Взорванный Петербург» пошел ко дну «подводной лодкой», «туша Авроры» неким доисторическим чудищем, этаким левиафаном («видением кита») втиснулась в устье Невы, «бездонный сумрак» города, более похожий на толщу воды, прорезали шажки «загримированного Ильича», восставшие заполнили покои Зимнего, «как будто водою комнаты полня» – и властителям прежнего эона было объявлено, что их время кончилось. Потом улицы Петрограда были окроплены кровью вождя, а у лирического героя Маяковского, пришедшего на похороны Ленина, вырвалось просто религиозное выражение: «Сильнее / и чище / нельзя причаститься / великому чувству / по имени – / класс!». Решительное обновление, испытанное героем в Москве, распространилось на всю страну: в заключительных строках поэмы «Хорошо!» древняя российская земля поименована уже просто «подростком» и «землей молодости». Желание австрийских хулиганов подойти под то, что в данном контексте вполне можно назвать «пролетарским причастием» вызвало у лирического героя «Октябрьской поэмы» теплое одобрение: «…Молодцы – вéнцы! / Буржуям / под зад / наддают / коленцем. / Суд / жгут. / Зер гут». Обратив внимание на примитивный макаронизм и, мягко говоря, незамысловатые рифмы цитированного фрагмента, читатель сможет легко оценить, какое влияние оказал Великий Октябрь на творческие потенции поэта, подававшего большие надежды в пору написания поэмы «Флейта-позвоночник».
Немецкие образы нашли себе место в составе нового, большевистского мифа о городе на Неве. Так, у богоподобного вождя новой эры был свой предтеча – или, как выразился Маяковский, «старший брат», а именно, Карл Маркс. В тексте поэмы «Владимир Ильич Ленин», фигуре этого политического мыслителя было отведено довольно заметное место. Маркс зажег свои сердце и мысль «невероятной топкой», «раскрыл истории законы» и «повел / разить / войною классовой», которая усилиями Ленина и его партии была перенесена в Петроград. К числу помощников добрых сил относились и персонажи, не вызывавшие у героя поэмы никаких симпатий: «Поехал, / покорный партийной воле, / в немецком вагоне, / немецкая пломба. / О если бы / знал / тогда Гогенцоллерн, / что Ленин / и в их монархию бомба!». Не вполне приличные, с точки зрения российского патриота, обстоятельства возвращения вождей революции в страну весной 1917 года заслуживали, по твердому убеждению пролетарского поэта, включения в состав «петроградского мифа». Не случайно он, передразнивая шепоток недругов, с гордостью помянул их и в тексте «Октябрьской поэмы»: «А эти? / От Вильгельма кресты да ленты. / В Берлине / выходили / с билетом перронным. / Деньги / штаба – / шпионы и агенты. / В „Кресты“ бы / тех, / кто ездит в пломбированном!». Как известно, этот сомнительный эпизод был из официальной большевистской мифологии достаточно быстро вымаран. Однако решающее влияние тягот германской войны на возникновение волнений в Петрограде никогда не подвергалось забвению – так же, как героизм защитников революционного Петрограда от немецкого наступления (ведь «Вильгельмов сапог, / Николаева шпористей…»).
Базовые составляющие революционного «петроградского мифа» были восприняты ленинградскими поэтами, переосмыслены и включены ими в состав сочинений, посвященных теме блокады. К примеру, в стихотворении «Осень 1941 года», написанном в тревожную пору, когда немецко-фашистские полчища уже подходили к Ленинграду, О.Ф.Берггольц обещала, что защитники города не сдадут его, невзирая ни на какие лишения – кроме всего прочего, потому, что «…надо всеми нами зацветут / Старинные знамена Петрограда». В «Стихах о ленинградских большевиках», написанных в сентябре 1941 года, сказано, что коммунисты первыми вышли на оборону города, «…те же, те же смольнинские стяги / Высоко подняв над головой». Немецкая составляющая «мифа города» в годы блокады существенно не изменилась – за исключением того факта, что в облике врага с большей четкостью проступили метафизические черты. Так, обратившись к четвертой главе поэмы В.М.Инбер «Пулковский меридиан», помеченной 1941–1943 годами, в шестой строфе встречаем вполне реалистичное описание наступления гитлеровских войск, навалившихся на город тремя колоннами, «силой сорока дивизий», при поддержке авиации и артиллерии. В следующей строфе, раздраженный полученным отпором, враг призывает себе на помощь Мороз и Мрак: «И те пришли, готовые к победам, / А третий, Голод, шел за ними следом». Обращение к аллегориям в цитированном фрагменте было формально оправдано беспрецедентной трагедией города – однако внимательный глаз заметит и признаки транспозиции темы в «сакральный план». Она не раз еще употреблялась блокадными поэтами применительно не только к врагам, но и к защитникам осажденной твердыни. Так, Ольга Берггольц писала о «крещении блокадой», героиня Веры Инбер целовала горбушку «святого блокадного хлеба», а герои Николая Тихонова давали в 1941 году клятву отстоять «святой невский берег»; примеры легко умножить.
Таким образом, «метафизика Петрограда» была включена в «метафизику Ленинграда». Носителями последней виделись ленинградские коммунисты, основы характера которых были заложены в годину революции. В цитированных уже выше, получивших большую известность в годы блокады «Стихах о ленинградских большевиках», автор просто и весомо напоминала, что «в этом имени – осенний Смольный, / Балтика, „Аврора“, Петроград», что «в этом имени бессмертен Ленин» – и именно потому страна обратилась к носителям этого имени, первыми послав их на бой. Вместе с тем, в литературе о блокаде постоянно встречаются и образы, принадлежавшие совсем другому, «петербургскому периоду» отечественной истории. К примеру, в написанном в самом начале блокады стихотворении «Бессмертие» В.М.Инбер читаем: «К плеяде столь прославленных имен, / Как Измаил, Полтава, Севастополь, / Прибавится теперь еще и он, / Град Ленина…». В опубликованном в то же время «Послании в Ленинград», лирический герой П.Г.Антокольского воскликнул: «Старый друг наших сказок и снов, / Медный всадник, механик и зодчий! / Стереги ленинградские ночи…». Каноническое выражение этой линии мысли дал Н.С.Тихонов в написанном уже после войны стихотворении «Ленинград»: «Петровой волей сотворен / И светом ленинским означен…». В обзоре литературной традиции «города на Неве» за два с половиной столетия ее существования, выдающийся ленинградский литературовед П.Н.Берков справедливо заключил, что в цитированном выше стихотворении Тихонова было дано «философское осмысление „идеи Ленинграда“». Сущность этого осмысления состояла, по нашему мнению, в том, что избранные элементы «метафизики Петербурга» были включены в состав «метафизики Ленинграда».
Наметившееся еще в годы войны восстановление целых пластов символики и идеологии старой России составило общий контекст этого расширения. Там, где герои Маяковского видели гнилой корабль, который заслуживал лишь пуска на дно, следующее поколение обнаружило сокровищницу образов и идей, вполне пригодных для «умного выбора». В первую очередь, этот выбор воскресил к новой жизни образы революционеров прошлого, «будивших» друг друга (по ленинской формуле), начиная от декабристов – и далее, вплоть до Герцена и народовольцев. Далее, восстановлен был государственный культ классиков отечественной литературы и искусства, степень размаха которого прямо зависела от выраженности в их творчестве принципов революционно-демократической эстетики. И, наконец, настал черед образов великих полководцев, давших пример обороны Отечества, несмотря на свои часто реакционные, крепостнические убеждения. Приведя уже показательные примеры из произведений выдающихся советских поэтов, мы обратимся теперь к традиции ленинградского исторического романа – в первую очередь, с тем, чтобы проследить видоизменения занимающей наше внимание немецкой темы.
О.Д.Форш взялась за свой первый исторический роман в Ленинграде, в 1924 году. К тому времени ей перевалило за пятьдесят, за плечами была интересная и, особенно в последние годы, трудная жизнь. Ольга Дмитриевна была дочерью царского генерала, ей довелось достаточно долго прожить в дореволюционном Петербурге и свести здесь знакомство с ведущими дятелями отечественного «серебряного века». «Петербургский миф» безусловно входил в круг ее интересов. Особенно часто она возвращалась к нему в беседах с Андреем Белым – прежде всего в связи с его романом «Петербург», разбору которого Форш уже после революции посвятила особую статью. Весной 1918 года, писательница перебралась в Москву, но уже через три года вернулась в голодный, растерзанный Петроград, с надеждой никогда больше его не покидать. «Первый исторический роман Ольги Форш – „Одеты камнем“ – открыл перед нею дорогу призвания и положил одно из краеугольных начал советской исторической романистики», – писал Председатель правления Союза писателей СССР К.А.Федин в сборнике, посвященном подведению итогов творческой деятельности писательницы. Он должен был хорошо помнить, как еще в 1954 году, на II Всесоюзном съезде писателей, ему довелось сидеть рядом с Ольгой Дмитриевной в президиуме и слушать ее приветственное слово, которым открылся первый день заседаний. По тем временам, то была небывалая честь: первый конгресс открывал сам Максим Горький.