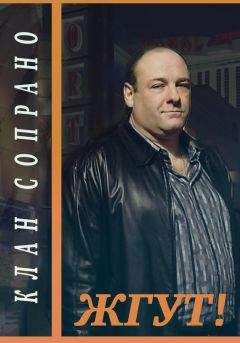Юрий Лотман - Сотворение Карамзина
Карамзин «Вестника Европы», Карамзин первых томов «Истории» ответил бы ему, что перед общим частное должно быть приносимо в жертву. Сейчас, в конце жизни, его ответ внешне исполнен смирения перед Провидением, но внутренне полон скепсиса и глубокого смятения. Он записывает (оригинал по-французски): «Бог — великий музыкант, вселенная — превосходный клавесин, мы лишь смиренные клавиши. Ангелы коротают вечность, восхищаясь этим божественным концертом, который именуется случай, неизбежность, слепая судьба» [504].
Итак, то, что гармония в некотором высшем, не доступном человеку смысле (а отнюдь не в смысле государственного приоритета общего над частным), то с человеческих позиций рисуется как бессмысленный случай и слепой рок. А поскольку автор IX тома, посвященного «тиранствам Иоанновым», и X–XI, рассказывавших о смуте, знал, что случай, неизбежность и слепая судьба не только слепы, но и кровавы, то доступность для человека наслаждаться таким концертом делалась весьма проблематичной.
Еще более примечательна другая запись этих же последних месяцев. Задумав историю как историю государства, Карамзин исходил из просветительского представления о разумном начале как основном содержании истории. А поскольку Разум сосредоточивается в великих людях и актах управления, то история есть история государства.
В 1802 году в первом же номере «Вестника Европы», Карамзин заявил: «Превосходные умы суть истинные герои истории».
Вера в «превосходные умы» (и, следовательно, в государственность) подорвана. Странно, но историк государства Российского явно не горит желанием добраться до Петра, собираясь закончить повествование смутой, т. е. распадом государственности. Осенью 1824 года, еще до последней болезни и подкосивших его событий конца 1825 года, он уверенно сообщает Дмитриеву, что закончит историю концом смутного времени: «Еще главы три с обозрением до нашего времени, и поклон всему миру, не холодный, с движением руки на встречу Потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно» [505].
Этому настроению, этому пониманию истории соответствует запись: «Мы все как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий!» [506] Если к этому изречению добавить, что носителем таинственной воли Провидения является стихийная, бессознательная жизнь народа, а не «муха на возу» — «превосходные умы», то перед нами будет нечто, очень близкое к толстовской философии истории периода «Войны и мира». Карамзин не говорит этого, но именно такова историческая перспектива движения его мысли.
И в другом он сближается с Толстым: смысл истории скрыт, но бесспорна, рядом с ее таинственной жизнью, ценность человеческой личности. А ценность эта — и здесь путь к позднему Пушкину — в уважении к себе, личной независимости как необходимом условии существования.
Последние десять лет Карамзин провел при дворе: он постоянный собеседник императора в его «зеленом кабинете», т. е. во время утренних прогулок по аллеям царскосельского парка, частый гость у вдовствующей и царствующей императриц, великих князей и великих княгинь. Его ласкают, ему даже льстят. Он искренне любит Александра как человека, ясно видя все его слабости, откровенен и прост с Марией Федоровной, Елизаветой Алексеевной. Но ни на минуту он не забывает, что он носит два высочайших звания: Человека и Карамзина. Он не борется за сохранение своего достоинства, как не борется за право дышать, — он неотделим от него.
Но то, что так естественно для него, совсем не таково для других: всю жизнь приходится плыть против течения. Особенно в последние десять лет. Он принципиально не вступает в полемики, не защищается от доносов [507]. Дмитриев требовал, чтобы он защитил свою «Историю» от нападок Каченовского, напоминая о достоинстве звания придворного историографа. Карамзин отвечал: «Не стою ни за что, мне не принадлежащее; а что мое, того у меня не отнимут». «Ты говоришь о достоинстве Историографа: но Историограф еще менее Карамзина (между нами будь сказано)» [508]. Сообщая Дмитриеву же, что государь «велел заплатить 2000 рублей за домик» для Карамзиных «в Петергофе на 48 часов», он тотчас же добавляет: «Я не продам души за 2000 р.» [509].
Отношения с царем приобретают исключительную сложность: личная привязанность к Александру как человеку, вера в то, что бескорыстный голос честного человека, говорящего царю истину, нужен России, сочетается с ясным сознанием недостатков государя, отвращением ко двору, вельможам, свету.
«Мне гадки лакеи, и низкие честолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить государя. К нему не лезу и не полезу. Не требую ни Конституций, ни Представителей (курсив Карамзина. — Ю. Л.), но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя Русского: вот противоречие, но только мнимое!» [510]. «Республиканец по чувствам (или, как Карамзин говорил в других местах, «республиканец в душе») имеет двойной смысл: в общественном отношении это означает признание, что в идеале республика есть лучшая форма государственного правления. Это мечта всякого честного человека. Но, как всякая мечта, она осуществима лишь в чрезвычайных условиях — требует добродетельного народа. Она не план для перестройки общества, а критерий его устроенности. Подобно тому, как высокие идеалы христианства, никогда полностью не реализуясь, сохраняют роль морального критерия, без которого общество потеряло бы нравственную ориентировку, идеалы республиканизма, оставаясь вне государственной практики, выполняют функцию политического критерия.
Но у этой формулы есть и личный аспект: республиканец, для Карамзина, — это человек античных добродетелей, стоик, патриот, «человек грядущих поколений», как говорил у Шиллера маркиз Поза. В этом смысле быть республиканцем можно при любом правлении. И в этом смысле верноподданный русского царя придворный историограф Карамзин, — конечно, республиканец.
Вельможи, окружающие императора, поражают его ничтожеством. Даже умнейшие из них застыли и отстали на десятилетия (странно читать такие упреки под пером того, кто слывет консерватором и ретроградом!). «…Видел H. H. Новосильцова: как он постарел! И все еще говорит об Адаме Смите <…>. Новосильцев еще орел в сравнении с другими; благороден душою, не лакей, и знает — Адама Смита!» [511] Из этих строк следует, что остальные душой неблагородны, лакеи и даже Адама Смита не читали. Эти слова написаны в 1817 году. А вот в 1822: «Нынешние вельможи, буде их можно так назвать, не имеют в себе ничего пиитического, ни исторического» [512]. Много сил уходит на то, чтобы ни в чем не слиться с придворными. 10 июня 1819 года Катерина Андреевна родила сына Владимира. Карамзину настойчиво дают понять, что следует «просить государя быть крестным отцом новорожденного». В 1817 году Карамзин уже один раз отклонил эту честь («подарков не желаем» [513]) и теперь поступает по «старой системе». Царь «крестит обыкновенно у генерал-адъютантов, у придворных etc.; а мы не придворные: сердечно благодарим за всякой знак милости, а не просим или не напрашиваемся» [514].
Так складывается идеал жизни, в значительной мере предвосхищающий пушкинский идеал 1830-х годов. В центре мира Карамзина в петербургский период — семья, Дом. Здесь сосредоточены подлинные ценности, здесь человек обретает Независимость. Мир этот активно противопоставлен миру «лакеев», придворных искателей и вельмож. В дни, когда Карамзина настойчиво толкают к тому, чтобы он искал протекции у Аракчеева (царь без этого не принимает), когда Аракчеев через своего ставленника Пукалова прямо обещает помощь и содействие, Карамзин пишет жене: «Видишь, что муж твой Гурон (т. е. дикарь. — Ю. Л.): не поехал к графу Аракчееву, не воспользовался даже и благорасположением Пуколова (Карамзин даже не дает себе труда правильно запомнить фамилию мужа фаворитки всесильного фаворита)! Чего же мне ждать? Уважения твоего и собственного» (курсив мой. — Ю. Л.) [515].
Для Пушкина Дом был звеном в цепи подлинно исторического существования, местом, где встречается прошедшее с будущим. Родовой дом на родовой земле с могилами предков и вместе с тем дом, в котором будут жить сыновья и внуки, становится символом непрерывности культуры. «Самостоянье человека», овладевшего «наукой первой» — «чтить самого себя», сливается с исторической жизнью народа и бессмертием Природы («Вновь я посетил…»).
Переживания Карамзина последних лет и сходны, и отличны. Для Пушкина этот символический образ имел и реальное бытие. Он был воплощен в образе Михайловского, и поэтически, и в планах, которые Пушкин пытался реализовать, противоположного «свинскому Петербургу». Карамзина не тянуло на родину, в деревню. Дмитриеву, уехавшему в деревню, Карамзин писал: «Любезный Симбирск, Волга, Свияга! мне уже, вероятно, не видать вас: признаюсь, и не желаю видеть!» [516]