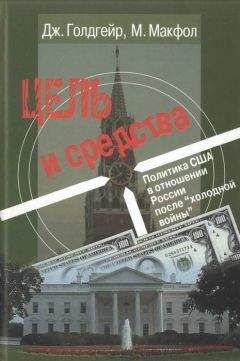Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
Смысл книги нарочито затемнен и почти неразличим среди высокопарных разглагольствований о духовных началах и огульных обличений вездесущего сенсуализма и материализма. «Я был не столько другом Господа, сколько недругом его врагов, и это негодование побудило меня написать свою первую книгу»[767]. Противоположностью человеку инстинктов является человек, наделенный пониманием, которого автор называет затем «человеком жаждущим» и «человеком духовным». Таким образом, Сен-Мартен придает термину «понимание» («intelligentia») еще более широкое значение, нежели Шварц. Только понимание и может спасти мир, так как его одушевляет духовная жажда, а цель его — возвращение к Богу. Вслед за неоплатониками Сен-Мартен утверждает, что все сущее есть эманация Господа. Изначальное совершенство человека утрачено лишь потому, что его духовная природа затмилась веществом; но «восстановление существами своей первичной целостности»[768] теперь стало возможным с помощью «понимания», которое проявляется в новых духовных братствах.
Сен-Мартен привлекал многих своих российских приверженцев именно обещанием привести людей к этой основе воссоединения или — как он ее также именовал — «данности» (la chose). Никто не ведал в точности, что это за «данность»; но искать ее надо было в оккультных трактатах и в таинствах масонских лож высоких степеней. Более, чем кто бы то ни было, Сен-Мартен способствовал укоренению среди российских мыслителей идеи, что подлинный мир есть мир духовный и что истина открывается лишь тем, кто как-либо соприкасается с этим миром или постигает его. Внедрение спиритуализма в обиход умственной жизни обеспечивало потенциальную общность интересов дворянских мыслителей и сектантов, носителей «духовного христианства». Екатерина, по-видимому, инстинктивно почувствовала, что такого рода объединенная оппозиция может возникнуть и развиться на религиозной основе под крылом «мартинистов» и что ради укрепления государственной власти необходимо этому твердо противодействовать.
Но каковы бы ни были ее соображения, арест Новикова и гонения на московских мартинистов положили конец просветительству Екатерины. Ибо Новиков сочетал в себе оба аспекта российского Просвещения: санкт-петербургский и московский, практическую благотворительность и теоретический мистицизм. В начале его деятельности очевидно преобладание сатиры, нравственной дидактики и англо-французских влияний. Все это было типично для ранних, неопределившихся форм английского масонства и для космополитической, деятельной столицы.
С переездом в Москву он углубился в религиозную тематику. Из мира Аддисона и Стиля он перешел в мир Баньяна и Мильтона. Новиков способствовал переводу «Потерянного рая» и «Пути паломника» и напечатал в первом же выпуске сборника «Избранная библиотека для христианского чтения» в 1784 г. первый русский перевод трактата Фомы Кемпийского «О подражании Христу». И занимался он уже не столько практической деятельностью, сколько исканием новой эзотерической религии, изучая с этой целью теософию Бёме и древние религиозные традиции русского народа.
Будущую распрю «западников» и «славянофилов» предвещает мировоззренческая разница низшего масонства и масонства высоких степеней. В обоих случаях западническая активность санкт-петербуржцев противостоит восточной созерцательности москвичей. Но в обоих случаях налицо тесный союз. Герцен писал об отношениях западников и славянофилов: «…Мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»[769]. Подобным же образом рационалист Радищев за полвека до того посвятил свое «Путешествие из Петербурга в Москву» мистику Кутузову: «Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно»[770].
Итак, подлинный залог единения обособленных дворянских мыслителей предоставлял не столько ум, сколько «сердце»: это была их общая озабоченность. Слово, означающее «понимание», у Сен-Мартена включало в свое значение «жажду» и «духовность», и эти оттенки были как нельзя более важны для тех, чьи духовные преемники стали называть себя и себе подобных intrlligentia. В их глазах Екатерине недоставало не понимания, а озабоченности: это их от нее и отталкивало.
В этих преданных делу дворянских кругах в последние годы царствования Екатерины превыше всего ценилось «правдолюбие». Под псевдонимом «Правдолюбов» писал Новиков; это была излюбленная надпись на могильных камнях. Дворянские мыслители полагали, что Истина существует: в поисках ее они становились масонами высоких степеней, отправлялись в путешествия и напряженно вчитывались в новые книги, доставленные с Запада. В согласии с Бёме и Сен-Мартеном они объясняли свою неспособность прочесть «гиероглифы» истины собственной греховностью. Чтение стало рассматриваться не как случайное и праздное занятие, а как составная часть всеобъемлющего духовного и нравственного обновления. Иностранные книги сделались предметами культа, им приписывали чудотворные свойства; ключевые пассажи нередко зачитывались торжественным тоном, на богослужебный манер. Однако за всеми этими «кружковыми» мистическими радениями стояло главнейшее верование Просвещения — в «сокровенную разумность», «конечную гармонию» за всей видимой несообразностью и невзгодами внешнего мира. Так что существовала логическая связь между «рациональной» и «мистической» сторонами Просвещения; в структуре личности Новикова эта связь была психологической.
Конечно, к оккультным способам истолкования прибегали отчасти вследствие новоявленного энтузиазма. Священные церковные песнопения заменялись новыми гимнообразными декларациями, восславляющими абстрактные добродетели и мифологические божества. Иконы заменялись статуями — главным образом бюстами великих философов. Псевдонаука физиогномика процветала в России благодаря чрезвычайному влиянию швейцарского мистика Иоганна Каспара Лафатера; и было широко распространено убеждение, что внутренние черты человека (а в конечном счете и существо его мыслей) можно уяснить путем тщательного изучения очертаний и фактуры его лица. Сады и гостиные повсеместно изобиловали реалистическими бюстами или портретами; и знаменитый жест Екатерины, разбившей, в сердцах на Французскую революцию, свой домашний бюст Вольтера, был почти тотемистическим.
Но что «правдолюбы» уповали обнаружить в своих кружках и под застывшими скульптурными масками философов? Ответом отчасти может служить само русское именование «истины» — правда. Как писал один дворянский интеллигент XIX в.: «Всякий раз, как мне приходит в голову слово «правда», я не могу не восхищаться его поразительною внутреннею красотой. Такого слова нет, кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда в этом огромном смысле слова всегда составляла цель моих искании»[771].
Правда, таким образом, означала как понимание природы вещей, так и высшую форму справедливости. Некоторое указание на то, что она имела оба эти значения для дворян-представителей российского Просвещения, можно обнаружить, обратив внимание на античные божества, заместившие древних святых в качестве вышних посредников между абсолютной истиной и человеческим миром. Две богини первенствовали в ложноклассическом пантеоне российского Просвещения: Астрея и Афина, богини справедливости и мудрости; олицетворения правды-справедливости и правды-истины. Елизавета распорядилась воздвигнуть для своей коронации огромную статую Астреи, а вскоре после этого — соорудить храм Минервы (латинское именование Афины) на площади перед Зимним дворцом. При коронации Екатерины было устроено маскарадное представление «Минерва Торжествующая»; в качестве законодательницы она изображалась в виде Астреи. Первой масонской ложей высоких степеней, учредившей филиалы в России, была берлинская ложа «Минерва»; последней и наиболее влиятельной ложей такого рода с множеством дочерних была российская ложа «Астрея».
Влияние масонства высоких степеней на развитие умственной жизни в России трудно преувеличить. Регулярные собрания маленьких кружков, идея совместных поисков истинного знания и высшей справедливости, любовь к эзотерическим ритуалам и чтениям, тенденция полагать нравственные, духовные и эстетические запросы составными частями единого, высшего устремления — все это стало непременным, хотя и двусмысленным, достоянием дворянских мыслителей России, сочетанием хаотичности с напряженностью. Именно эти круги, а не правительственные канцелярии и не новые университеты были купелью творческой мысли России начала XIX столетия. Мартинизм наэлектризовал атмосферу ожиданием и породил чувство общности у искателей истины, хотя их представления об истине были различны. Важнее всего то, что идеи вызывали жажду деятельности. Как заметил на рубеже веков один из ораторов на «творческом собрании» новообразованного «Дружеского литературного общества»: «Надобно раскрывать пользу, которую всякий из нас надеется получить от собрания… Но как и кто откроет сие драгоценное сокровище, которое иногда слишком глубоко таится в неизмеримой будущности? — Деятельность. Деятельность — страж и мать всякого успеха. Она даст нам ключ и покажет дорогу к святилищу природы. Труды, и несчастья, и венец победы соединят нас теснее, нежели все наши речи»[772]