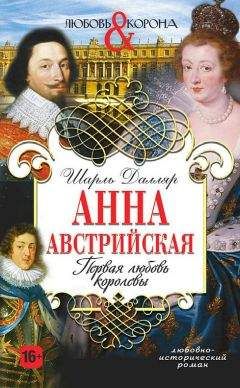Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Концепция Гердера оказала значительное влияние на формирование эстетики романтизма, прежде всего на теоретиков иенского романтизма Ф. Шлегеля и А.В. Шлегеля. Как отмечает Н.П. Банникова, «многие положения эстетических работ Гердера, его требование развития национальной литературы, отражающей историю и жизнь Германии, его мысли о новом, индивидуализированном герое, акцентирование внимания на его внутреннем, духовном мире, его чувствах, – все это способствовало рождению и формированию романтизма»[211]. В то же время идеи Гердера, равно как и его полемика с Винкельманом и Лессингом, как и полемика с ним Шиллера, способствовали формированию «веймарского классицизма».
Для вызревания эстетики «веймарского классицизма», как и для развития немецкой исторической прозы, большое значение имели исторические сочинения Фридриха Шиллера, стоящие на стыке научной, философско-публицистической и художественной прозы. Шиллер начинает усиленно заниматься историей после прибытия в Веймар в 1787 г. и знакомства с Виландом и Гердером. В 1788 г. выходит из печати его «История отпадения Соединенных Нидерландов» («Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niderlande»), в 1789 – «История Тридцатилетней войны» («Geschichte des Dreissigjärigen Krieges»). В том же году Шиллер получает кафедру истории в Иенском университете. Здесь в мае 1789 г. он прочитал вступительную лекцию на тему «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения». Подобно Гердеру, Шиллер представляет мировую историю как поступательное движение человечества к гармонии и совершенству. Однако при этом развитие различных народов подчиняется своим закономерностям, а неодинаковый образ жизни и уровень развития культуры у разных народов подтверждают наличие общих закономерностей и отдельных ступеней развития. История не является цепью случайностей, и задача историка – постичь связь, преемственность и повторяемость событий. Однако Шиллер в меньшей степени, нежели Гердер, считает важными для объяснения той или иной фазы развития общества природные и социальные условия. Непреложные законы, действующие в истории, понимаются им прежде всего как законы человеческого духа, что и может вызвать повторение в новейшие времена событий, произошедших в глубокой древности. Шиллер завершил свою речь словами, исполненными высокого просветительского пафоса и почти дословно перекликающимися с декларацией Дидро и д’Аламбера о задачах «Энциклопедии»: «Мы должны гореть благородным стремлением приобщить и нашу долю к тому богатому наследию истины, нравственности и свободы, которое мы получили от прошлого, и в приумноженном виде передать последующим поколениям и закрепить наше кратковременное существование связью с той вечной цепью, которая соединяет между собой все человеческие поколения»[212].
Движение истории мыслится Шиллером как постепенная эволюция, однако при этом он тяготеет к изучению переломных, катастрофических эпох в истории, когда на авансцену выходят сильные личности, носители тех или иных идей, ведь именно идеи движут историей. Так, в «Истории Тридцатилетней войны» на первый план выходят шведский король Густав Адольф и немецкий полководец Валленштейн. При этом Шиллер создает идеализированный образ Густава Адольфа, бескорыстного защитника протестантизма, – образ скорее художественный, нежели исторический: «С мечом в одной руке и милостью в другой проносится он теперь по всей Германии, из конца в конец, покоритель, завоеватель и судья, проносится в такое короткое время, какое другой употребил бы на обозрение ее во время увеселительной поездки… Нет для него неприступных замков, реки не останавливают его победоносного шествия; часто он побеждает одним звуком своего грозного имени» [213]. Точно так же в «Истории французских смут» («Geschichte der französischen Unruhen», 1791–1793), посвященной религиозным войнам во Франции XVI в., главными действующими лицами являются Гизы, Екатерина Медичи, адмирал Колиньи, о котором Шиллер пишет: «До тех пор, пока протестантами руководил такой человек, все попытки совладать с ними были обречены на неудачу»[214].
Изучение истории и роли в ней великих личностей вызовет к жизни великие исторические драмы Шиллера. Однако это изучение не позволяло ему ответить на вопросы, тревожившие многих просветителей: почему, несмотря на действие Промысла Божьего и разума в истории человечества, она не становится более разумной? Почему в истории так много насилия и можно ли путем насилия и революций изменить мир и человека? На эти вопросы, а также на вопросы о сущности искусства и его соотношении с жизнью Шиллер отвечает в своей важнейшей теоретической работе «Письма об эстетическом воспитании человека» («Über die ästhetische Erziehung des Menschen», 1793–1795). Показательно, что Шиллер начал писать ее в период якобинской диктатуры, оценивая последнюю однозначно отрицательно, как и Французскую революцию в целом. При этом он вовсе не игнорирует политических проблем, но, наоборот, подчеркивает, что именно на политической арене «решается теперь великая судьба человечества»[215]. Шиллер также отмечает, что его обращение к сфере эстетики может показаться неуместным в момент, «когда гораздо больший интерес представляют события мира морального и обстоятельства времени так настойчиво призывают философскую пытливость заняться самым совершенным построением истинной политической свободы»[216]. Однако автор настаивает, что обращение к эстетике вызвано как раз его стремлением понять, как достичь истинной политической свободы: «…для решения на опыте указанной политической проблемы нужно пойти по пути эстетики, ибо путь к свободе ведет через красоту»[217].
Шиллер обосновывает свой основной тезис, который является и наиболее афористичным выражением сущности «веймарского классицизма» («путь к свободе ведет через красоту»), следующим образом. Совершенно ясно, что абсолютистское государство выявило свою абсурдность, нежизнеспособность и не соответствует разуму и естественному состоянию. Большая масса людей поняла, что не может жить по-старому: «…человек пробудился от долгой беспечности и самообмана, и упорное большинство голосов требует восстановления своих неотъемлемых прав. Однако он не только требует их. По сю и по ту сторону он восстает, чтобы насильно взять то, в чем, по его мнению, ему несправедливо отказывают»[218]. Но в том-то и дело, что человек восстает, чтобы взять свое право насильно, а значит беззаконие сменяется новым беззаконием. По мысли Шиллера, появилась «физическая возможность возвести закон на трон», но «недостает моральной возможности, и благоприятный миг встречает невосприимчивое поколение». Эта же мысль уже прозвучала в «Доне Карлосе» и будет повторена в «Валленштейне»: век еще не созрел для свободы, для осуществления гуманистических идеалов. Шиллер убежден, что они вообще не могут быть осуществлены варварскими и кровавыми методами. Методы же изменятся только тогда, когда благородным станет человек. Как же воспитать благородного человека? «Ради этой цели, – пишет Шиллер, – нужно найти орудие, которого у государства нет, и открыть для этого источники, которые сохранили бы, при всей политической испорченности, свою чистоту и прозрачность»[219]. Таким орудием Шиллер считает искусство.
Только искусство, прекрасное и гармоничное, может сформировать прекрасного, благородного человека. При этом Шиллер настаивает, ссылаясь на Канта, что прекрасное не может быть ангажированным, иначе оно перестает быть прекрасным: «…следует вполне согласиться с теми, которые считают прекрасное и расположение духа, проистекающее из прекрасного, совершенно безразличными и бесплодными с точки зрения познания и убеждения. Красота не преследует никакой отдельной интеллектуальной и моральной цели; она не находит ни единой истины, не помогает выполнению какой-либо обязанности, одним словом – в одинаковой мере не способна создать характер и просветить рассудок» [220]. В соответствии с этим заявлением Шиллер утверждает, что в истинно прекрасном произведении все зависит от формы и меньше всего от содержания, ибо «только форма действует на всего человека в целом. Содержание же – лишь на отдельные силы»[221]. Всякая тенденциозность противна настоящему искусству: «… ничто в такой степени не противоречит понятию красоты, как стремление сообщить душе определенную тенденцию»[222].
Однако именно такая, нетенденциозная, красота, именно такое, незаинтересованное, искусство и способны в конечном счете выполнить великую миссию – воспитать прекрасного человека, готового принять трудную свободу, проявить и укрепить в человеке ту «прекрасную душу», которая заложена в нем изначально. В статье «О грации и достоинстве» (1793) Шиллер соотносит эту «прекрасную душу» – идеал гармоничной личности, свободно и сознательно проявляющей себя в мире, – с благородными образами античного искусства и ссылается при этом на Винкельмана, который так тонко воспринимал и описал «эту высокую красоту, где сочетаются грация и достоинство»[223]. Понятие шиллеровской «прекрасной души» кореллирует с гётевским понятием «свободной человечности», и оба они становятся своеобразными «столпами» эстетики «веймарского классицизма».