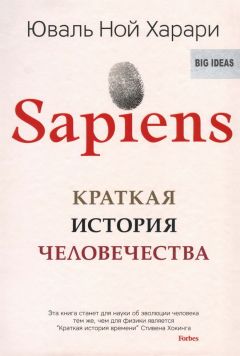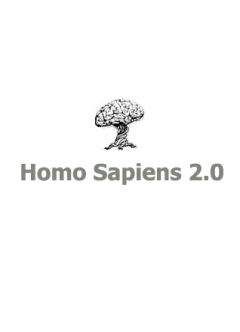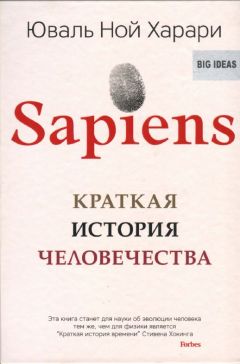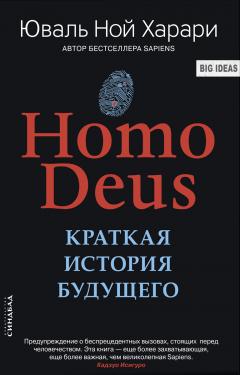Сергей Беляков - Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя
Петербург появится у Шевченко позднее – в поэме «Сон» и, возможно, в переводах псалмов Давидовых. В 136-м псалме. Псалме, известном и людям, толком не читавшим Библии. «Там, на реках Вавилонских», «Там, у рек Вавилонских», или, что точнее, «При водах Вавилонских». У Шевченко – «На рiках круг Вавилона».
Псалом был написан несколько веков спустя после смерти царя Давида. Он относится ко времени Вавилонского пленения, то есть к VI веку до нашей эры. Сюжет его таков: евреи у вод Вавилона (на берегах Евфрата и многочисленных каналов) тоскуют по родине, повесив на ветви ив свои лиры. Вавилоняне («те, кто в плен нас увел», «сыны Эдома») предлагают им спеть песни Сиона, но евреи отказываются: «Как петь нам песнь Господу на чужой земле?» Они клянутся, что не позабудут Иерусалим, призывают Господа отомстить сынам Эдома за гибель Иерусалима:
Вавилон, ты страна грабежа!
Благословен,
кто поступит с тобой,
как ты – с нами!
Благословен, кто размозжит
твоих детей о камень![1164]
Блаженный Августин писал, что «в Ветхом Завете сокрыт Новый, а в Новом – раскрывается Ветхий»[1165]. Но этот псалом написан за шесть веков до христианства. В его строках отражена историческая реальность совершенно другой эпохи, стоит вчитаться в этот страшный текст, полный превосходной ветхозаветной поэзии, национальной гордости и бешеной ненависти к врагам. Это древнееврейская «Священная война».
А вот ее украинский перевод.
І Господь наш вас пом’яне,
Едомськії діти,
Як кричали ви: «Руйнуйте,
Руйнуйте, паліте
Сіон святий!» Вавилоня
Дщере окаянна!
Блаженний той, хто заплатить
За твої кайдани!
Блажен! блажен! Тебе, злая,
В радості застане
І розіб’є дітей твоїх
О холодний камень[1166].
И господь наш вас помянет,
Едомские дети,
Как кричали вы: «Громите!
Жгите! В прах развейте!
Сион святой!» Вавилона
Смрадная блудница!
Тот блажен, кто заплатит
За твою темницу!
Блажен, блажен! Тебя, злую,
В радости застанет
И ударит детей твоих
О холодный камень!
Шевченко перевел на украинский всего десять псалмов. Перевел, разумеется, с церковнославянского – восточных языков он не знал. Христианскую трактовку псалмов Тарас Григорьевич вряд ли усвоил. Научил его читать Псалтырь дьячок Богорский, человек еще молодой, не так давно бросивший семинарию (доучился только до среднего класса риторики). Учеников он порол нещадно, а в свободное время пил горилку. Вряд ли у него были время и возможность рассказать ученикам о сложном, аллегорическом толковании псалмов, принятом в христианской традиции. Ученики должны были только читать и учить их наизусть. Шевченко оставался один на один с церковнославянским переводом, сохранившим лишь часть поэтической силы оригинала.
Шевченко переводил псалмы осенью 1845-го, это был расцвет его гения. Украинский перевод оказался длиннее церковнославянского и содержал строки, не имевшие аналогов ни в церковнославянском переводе, ни, как я могу судить, в древнееврейском оригинале. Эдомляне у Шевченко не только пытаются заставить своих «невольников» спеть «пiсню вашу», но предлагают: «Або нашу заспiвайте». Намек на русских (москалей), что заставляют малороссиян переходить на «московскую мову» и принимать свои обычаи, совершенно очевиден.
Якої ж ми заспіваєм?..
На чужому полі
Не співають веселої
В далекій неволі[1168].
Какую же будем петь мы?
Здесь, на чужом поле,
Не поется веселая
В далекой неволе.
Противопоставление космополитичного Вавилона «национальному» Иерусалиму – прозрачный намек. Киев еще в XVII веке называли «вторым Иерусалимом» как в Малороссии, так и в Москве. К слову, еще Ярослав Мудрый в начале XI века построил в Киеве Золотые ворота и храм Премудрости Божией – Софийским собор. Образцами были златые врата и храм Софии в Константинополе, но ведь Константинополь просто копировал Иерусалим с его вратами и храмом царя Соломона.
Шевченко мог обойтись и без такой цепи ассоциаций. Его друзья называли Петербург «северным Вавилоном». Вавилон в 136-м псалме – обитель зла, столица враждебного государства. Но ведь и в поэме Шевченко «Сон» Петербург – это город не страшный, как у Гоголя. Это именно вражеский город.
Русский читатель будет удивлен и возмущен. В самом деле, украинцы «на чужой земле» пели во весь голос. Носили не кайданы (кандалы), а модные сюртуки, шляпы от Циммермана и швейцарские часы. Сам Шевченко одно время был франтом, любил одеваться по моде. Его друг, художник Сошенко, даже удивлялся: куда тебе, Тарас, всё это: «Шуба енотовая, цепочки <…> шали да часы, да извозчики лихачи…»[1170] Но ведь и Николай Васильевич Гоголь, по словам С. Т. Аксакова, одевался с претензией на щегольство[1171]. Что говорить про высокопоставленных малороссиян, сенаторов и тайных советников – Стороженко, Квитку, Кочубея? А жизнь крепостных малороссийских крестьян – говорящей собственности не только русских и польских, но и украинских панов – была не хуже и не лучше жизни таких же крестьян-великоруссов.
Но чувства сильнее разума, а историческая вина России и русских помнилась больше их исторических заслуг. Поэтому и появился в стихах великого поэта образ имперской столицы, поработившей Украину, построенной на козацких костях.
В снегах и на чужбине
Если верить исторической мифологии, а ей верят даже многие историки[1172], Петербург стоит на костях. Украинцы добавляют: на украинских[1173]: «Сила наших козаков полегла, годами строили Петроград, и русская (в оригинале «московская». – С. Б.) столица стоит на украинских костях», – утверждал в начале XX века приват-доцент Киевского университета Иван Огиенко[1174].
За семьдесят лет до Огиенко Николай Костомаров писал в «Законе Божием», программном документе Кирилло-Мефодиевского общества, о «сотнях тысяч», что царь Петр погубил «в каналах и на костях их построил себе столицу»[1175]. Более того, Костомаров говорит о гибели украинского казачества, так что «сотнями тысяч», видимо, он исчислял только козаков, погибших на строительстве, хотя на Украине в петровское время просто не было столько козаков[1176]. А соратник Костомарова по Кирилло-Мефодиевскому обществу Тарас Шевченко оплакивал страдания украинского народа, брошенного погибать в болотах Финляндии или Ингерманландии.
Як погнали на болото
Город будовати.
Як плакала за дітками
Старенькая мати.
Як діточки на Орелі
Лінію копали
І як у тій Фінляндії
В снігу пропадали[1177].
Как людей погнали строить
Город на трясине.
Как заплакала седая
Мать о милом сыне,
Как сыночки на Орели
Линию копали,
Как в холодном финском крае
В снегу погибали.
В наше время доказано, что массовая гибель на строительстве Петербурга – это миф. Смертность на строительстве Петербурга была не больше, чем на других стройках Петровского времени. Так, в 1706 году «из 529 плотников Петербургского адмиралтейства скончался один человек», еще 33 человека заболели, а пятеро бежали. За 1711–1712 годы в Петербурге из 2210 мастеровых умер 61 человек. Много это или мало? Во время строительства гребного флота на реке Воронеж смертность была вдвое выше[1179].
Однако мифы живут до сих пор. При этом русский миф резко отличается от украинского. Русский – видимо, вариант древнего языческого мифа о строительной жертве: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». В основе великого дела – кровавая жертва. А строительство града Петрова – великое дело. Как тут без великой крови? Но для русских Петербург – свой город, русский город. Поэтому кровь пролита недаром. А для украинцев это город – чужой. И кровь они пролили за чужое дело.
«Проклятый, лукавый» царь, «аспид голодный», засыпал финские болота благородными украинскими костями, на трупах замученных козаков поставил столицу.
Що ти зробив з козаками?
Болота засипав
Благородними костями;
Поставив столицю
На їх трупах катованих![1180]
Что ты сделал с казаками?
Засыпал трясины
Благородными костями;
Поставил столицу
Ты на их кровавых трупах!
Так обвиняет царя Петра тень наказного гетмана Павла Полуботка в поэме Тараса Шевченко «Сон». И это было далеко не первое и не самое страшное обвинение. Еще Пилип Орлик, бывший генеральный писарь Войска Запорожского, утверждал, что москали просто хотели истребить козаков, а потому и послали их на строительство Ладожского канала. Там одних козаков замучили непосильным трудом, других уморили голодом, третьих потравили гнилой мукой, смешанной с известкой и ящерицами[1182].