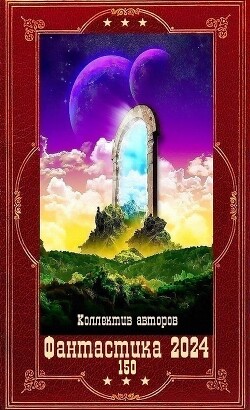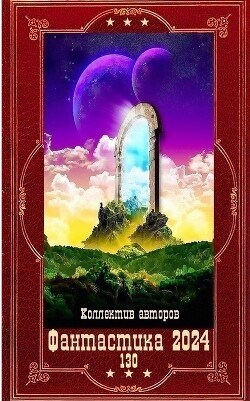Пол и секуляризм (СИ) - Скотт Джоан Уоллак
Секуляризм — полемическое слово, произнесенное в XIX веке, — строился на дифференциации, которая стала все больше выделяться в предшествующее столетие. Отвержение религии как пережитка традиционного прошлого, которое он подразумевал, следовало из идеализации различий между сферами публичного и частного, политического и религиозного, современного и традиционного, государства и семьи, Запада и Востока, мужественности и женственности, мужского и женского. В этих различиях не было никакого гендерного равенства; скорее, они были помечены предпосылками гендерного неравенства. Дело было не в том, чтобы реконфигурировать гендерные различия, которые существовали с древнейших времен, а в том, чтобы акцентировать половое различие как часть объяснения общественной и политической организации.
Ученые не раз указывали на усиление полового различия в связи с подъемом капитализма и национальных государств, начиная с XVIII столетия. Кевин Флойд отмечает, что
проведение в «Капитале» очень четкого различия между публичным и частным … основывается на натурализации частной собственности, но также, в конечном счете, неотделимо от происходившей дифференциации общественного труда, включая гендерное разделение труда, разделение на ручной и интеллектуальный труд и атомизированную, дисциплинарную специализацию самого знания [42].
Нэнси Армстронг изучала английские руководства по поведению, которые, с ее слов, к концу XVIII века «превратили женщину в носительницу моральных норм и возложили на нее задачу по социализации мужчины». Они также предлагали техники управления желанием, «направленные на производство гендерно дифференцированных форм экономического поведения» [43]. Дениз Райли пишет о «возрастающей сексуализации, в которой женщин начинают считать в буквальном смысле переполненными их полом, захватывающим впоследствии их рациональные и духовные способности; кульминации этот процесс достиг в Европе XVIII века» [44]. Дж. Дж. Баркер-Бенфильд отмечает, что гендерные различия «устоялись» в Англии в XVIII и XIX столетиях [45]. Историк Изабель Халл ссылается на значение акцента на «гражданском обществе» в Германии конца XVIII столетия:
Там, где раньше гендерная дифференциация упорядочивала приватный, негосударственный мир и создавала не более чем отголоски в публичном мире, теперь предполагалось, что она организует оба мира. Таким образом, по мере того как общество приобретало все большее значение, все важнее становилась и гендерная дифференциация [46].
Историки, занимающиеся Американской и Французской революциями, пришли к такому же выводу. Сюзан Джастер так резюмирует их работы:
Новый правящий класс проникал в поры власти, утверждая мужскую прерогативу над женственным Старым режимом. В обоих случаях страхи, порождаемые периферийным статусом, которые в конечном счете были укоренены в половой неопределенности не меньше, чем в политической, разрешались у зарождающихся при помощи громогласной ассоциации себя с мужской доблестью [47].
Элизабет Мэддок Диллон, обсуждая место авторов-женщин в производстве американской литературы XIX века, отмечает, что
либерализм полагается на бинарную модель пола и гендера: либеральная доктрина одновременно и создает, и поддерживает застывшую оппозицию между мужским и женским телами и субъективностями [48].
Логика нарратива, который все больше ассоциировал гендерную дифференциацию с модерном, очевидна также в незападных странах, где она либо навязывалась колониальными властями, обычно в форме семейного права, либо импортировалась и принималась в локальных практиках теми, кто стремился жить по западным моделям. В исследованиях, посвященных Ирану в XIX и XX веках, Афсанех Наджмабади отмечает, что «гетеронормализация эроса и пола становилась условием „достижения модерна“» [49]. Без сомнения, в опыте постколониальных стран и их империалистических предшественников были различия, но была также важная преемственность, и более застывшая гендерная дифференциация была такой преемственностью.
Несмотря на вызовы от индивидов и общественных движений, четкое разделение между полами сохранилось, пусть и с изменениями, которые важно отметить. Но я хочу отрицать не изменение, мне представляется необходимым оспорить антиисторическое приравнивание в современном дискурсе овеществленного секуляризма к гендерному равенству. То, что сегодня зло ислама представлено в противопоставлении безусловному добру секулярности с гендерным равенством как ее центральной чертой, способствовало отвлечению нашего внимания от того, что половое различие — такая же неразрешимая проблема для стран секулярного христианского Запада, как и для их оппонентов в любом другом месте.
План книги
Поскольку нынешние отсылки к секуляризму предполагают, что в его основе лежат неизменные принципы гендерного равенства, первые три главы я посвящаю оспариванию этого допущения. Рассматривая то, как женщины в Западной Европе, Британии и Соединенных Штатах ассоциировались с религией (глава 1) и репродукцией (глава 2) и как эти виды деятельности лишали их права участия в политике (глава 3), я обращаюсь к огромному корпусу исследований, которые уже давно это описали. Цель в том, чтобы напомнить о релевантности этих исследований для нынешних споров о секуляризме и тем самым подчеркнуть, что секуляризм — это дискурс с историей, в котором нет недостатка в конфликтах и противоречиях.
Затем я перейду от материала XIX–XX веков к тому моменту, когда эксплицитные отсылки к секуляризму на Западе исчезли, утратив свое политическое значение в контексте холодной войны. В главе 4 я утверждаю, что во второй половине XX века старое различие публичного и частного пропало в обеих областях — религии и сексуальности, введя новые концепции, которые подготовили новый дискурс секуляризма в Западной Европе и в англо-американском мире — дискурс, в котором ислам сменил Советский Союз в качестве угрозы общественному порядку. В этом новом дискурсе секулярное и христианское всё больше считались синонимами, а сексуальная эмансипация женщин стала главнейшим показателем гендерного равенства.
В последней главе (глава 5) я исследую сложное применение феминизма и призывы к «сексуальной демократии» в новом дискурсе секуляризма. Это непростая история, и она включает в себя настаивание на сексе как публичном вопросе и на женской сексуальности (и, шире, ненормативной сексуальности) как на праве индивида на самоопределение.
Акцент на индивидуализме — часть того, что Венди Браун назвала «рациональностью неолиберализма», а эта рациональность не совпадает со своей предшественницей из XIX века [50]. В то же самое время половое различие и его гетеронормативные притязания никуда не делись, смешивая статус женщины как желающего субъекта (свободно делающего выбор, как любовный, так и репродуктивный) с ее статусом объекта (мужского) желания. Современный дискурс секуляризма с его упором на важности «непокрытого» женского тела отождествляет публичную видимость с эмансипацией, как будто видимость была единственным способом утвердить женщин в качестве сексуально автономных индивидов (у которых в этой области те же права, что и у мужчин). Контраст с «покрытыми» мусульманскими женщинами не только способствует сохранению смешения западных женщин как субъектов и объектов желания: он также отвлекает внимание (или попросту игнорирует) от сохраняющегося расиализированного гендерного неравенства на рынках, в политике, на рабочем месте и в законодательстве с каждой стороны. Но это еще не все: он внушает, что с каждой стороны разделения существует однородность — как если бы у всех западных женщин и у всех мусульманских женщин был один и тот же опыт, одни и те же взгляды, одна и та же жизнь. Если мы мыслим этих женщин в сугубо оппозиционных категориях, мы упускаем из виду трудности, которые половое различие создает во многих контекстах, и тогда мы недооцениваем или неправильно характеризуем вызовы, которые эти трудности бросают достижению гендерного равенства (цели, вполне возможно, в конечном итоге утопической).