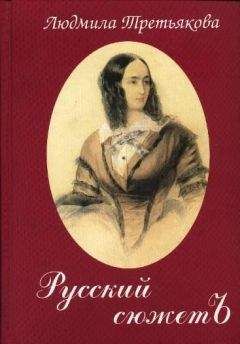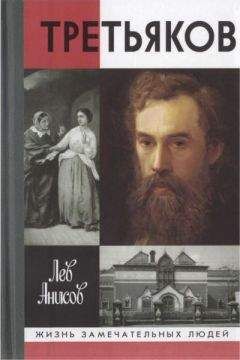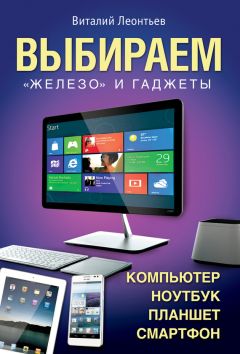Е. Ганелин - От упражнения - к спектаклю
- Внешняя характерность, самосуществующая, сама по себе обусловливающая возникновение определенной внутренней жизни образа (в первую очередь, индивидуальность самого актера). [7]
Это упражнение должно воспитать умение “типизировать” характер, найти общие черты, присущие человеку в молодости, старости, определяющие его “зерно”.
Студенту предлагается придумать и сыграть этюд с событием. Героем этого этюда должен быть молодой человек, подсмотренный студентом в жизни или “сочиненный” им. В этюде нас, прежде всего, интересует то, как действует персонаж, его манера мышления, скорость реакции, физическая активность, манера одеваться, словом все, что составляет внутреннюю и внешнюю характерность этого юноши или этой девушки. Причем, говоря о событии и оценке, важно подчеркнуть, что педагог должен следить, чем оценка персонажа отличается от способа оценки исполнителя, присущего ему в жизни. Эта разница и дает понять способ мышления персонажа.
После разбора этюда тому же студенту предлагается сыграть еще один, в котором добавляется обстоятельство: прошло 40 или 60 лет.
Это обстоятельство можно использовать в той же схеме этюда, с таким же событием. Можно предложить студенту сочинить ситуацию совсем другую, с другим событием, но непременное условие - тот же герой, только в пожилом возрасте. Самое трудное - не впасть в поверхностное копирование признаков старости: семенить ногами, горбиться, старательно щурить глаза, изображая подслеповатость. Важно понять, что недуги и другие физические особенности, присущие возрасту, - всего лишь предлагаемые обстоятельства, в которых человек живет и активно действует. Борьба с затрудненным дыханием, сердечной болью и т.д. активизирует действие, поскольку это - препятствия, которые преодолевает человек в пожилом возрасте, и они для него стали уже привычными. Приведем пример. Автор, (Е.Г.), на втором курсе института по теме “Старый-молодой” показывал упражнение “Мой дед”. Я попытался воспроизвести момент обычного утра, когда дед, сидя в кресле, полу-дремал, полу-работал с бумагами. Телефонный звонок, когда кроме него некому снять трубку - колоссальное событие. Деду надо было дотянуться до нее рукой, что-то около полуметра, не уронить, поднося ее к уху, прокашляться, точнее, подавить в себе приступ кашля, мешавший ему говорить и, наконец, прошептать “Алло!”. Он был уже очень болен, практически не вставал, но был настолько любопытен и жизнелюбив, что не мог бы простить себе, если бы не успел к звонку. Поэтому “Алло!” выходило у него всегда торжествующе и весело.
В этом упражнении мне очень помогло дыхание. Поймав тяжелый астматический его ритм в спокойном положении деда в кресле, я, по ходу работы, управлял им, сдерживая кашель, “копил” дыхание, когда тянулся за трубкой. Верное ощущение дыхания “потянуло” за собой верное ощущение рук: пальцы были “не уверены”, в том, что смогут удержать трубку, сжимались и разжимались мучительно долго. Эти верные физические ощущения заставили меня позабыть о лице, они сами сделали его, таким, какое бывает у больного старика, очень занятого важным делом. (Упражнение это я стараюсь повторять всегда, когда в новой роли мне не удается схватить какие-то черты моих персонажей).
В.В. Петров предложил мне продолжить упражнение, сочинив этюд на тему “молодого деда”. Я сыграл его, придумав, как он завтракает, опаздывая на вступительный экзамен в Университет. И тогда и в старости отличительной его чертой было трепетное отношение к бумаге: он брал листы очень бережно, боясь помять или посадить какую-нибудь кляксу, уронить крошку… Этюд получился неплохой, но далеко не такой глубокий, как “Старый дед”. Через много лет, сейчас я, кажется, понимаю, в чем дело. Своего деда, уже старого, я знал прекрасно, неосознанно наблюдая за ним многие годы. Мне знакомы все повороты его головы, любимые словечки и интонации. Мне легко поверить в то, что, произнося их, я становлюсь им. А вот деда молодого я не видел, не хватило фантазии досконально насочинять столько же подробностей, сколько их можно найти в реальной жизни. Поэтому подчеркну, что умение наблюдать и анализировать - важнейшее качество, необходимое актеру. Важным методическим моментом является и контрастность упражнений и наблюдений. Не стоит ограничивать фантазию учеников какими-то чересчур строгими рамками, особенно на первых порах. Об этом очень точно писал И.Э. Кох: “Педагогическая наука о любой отрасли знаний свидетельствует, что если учащиеся занимаются с интересом и удовольствием, то они значительно лучше усваивают упражнения и пользы от занятий значительно больше, нежели тогда, когда упражнения выполняются безразлично или, что еще хуже, под нажимом педагога. Чередование во время урока упражнений, различно воздействующих на организм, позволяет педагогу вести занятия разнообразно и интересно, благодаря чему учащиеся тренируются с полной отдачей в течение всего урока. Такая методика оказывает благотворное влияние не только на эмоции, но на весь организм будущего актера. С этой точки зрения урок, построенный по принципу контрастности, более продуктивен, чем урок, созданный из упражнений одного типа” [8] .
Заканчивая разговор о ритме занятия, заметим - очень важно избежать двух крайностей: сухой академической лекционности и разбитного студийного веселья по типу “чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не плакало”. Лавируя между этими Сциллой и Харибдой, преподаватель, как Улисс, наверняка сможет найти верное направление в организации урока, в создании неповторимого ритма каждого занятия, его особой творческой атмосферы.
Поскольку эта работа касается, вопросов, так или иначе связанных с перевоплощением, стоит оговориться: “характер и характерность” являются далеко не начальными разделами русской театральной школы в традиционном ее понимании. Их углубленному изучению предшествует овладение основами органического психофизического действия:
- Сценическим вниманием
- Творческим воображением
- Отношением
- Действием
- Взаимодействием (общением).
Кроме того, к моменту начала активной и сознательной работы над темой “Характер и характерность” актер должен удовлетворительно владеть своим телом, речевым аппаратом, быть легким во владении темпо-ритмом. Иными словами, то, что К.С. Станиславский называл “Я - в предлагаемых обстоятельствах”, должно стать осознанной и прочувствованной профессиональной необходимостью. Конечно, в ходе занятий эти знания и практические навыки должны развиваться, ибо в искусстве все взаимосвязано. В связи с этим хотелось бы остановиться несколько более подробно на таком элементе театральной школы, как этюд. В музыке, к примеру, этюдом называется “музыкальное упражнение, написанное с целью развить технику играющего или поющего” [9] . Вместе с тем, “… есть этюды (преимущественно в области фортепианной), в которых, кроме технической цели, преследуются цели художественные. Подобные этюды являются не только в домашнем обиходе, но и на концертной эстраде, как, например этюды Шопена, Шумана, Тальберга, Мошелеса и пр.” [10] Этюд, на мой взгляд - особый “жанр” театральной педагогики. Это и не упражнение и не элемент тренинга. К этюду следует относиться как к совершенно самостоятельному сценическому произведению, в котором исполнитель выступает еще и в роли драматурга и режиссера. В самом деле, как показывает повседневная педагогическая практика, наиболее глубокими и содержательными оказываются этюды, которые придуманы самими студентами без подсказки преподавателя, от начала и до конца выстраданные ими. Сюжет, подсказанный сокурсником или педагогом, почти никогда не вызывает такой личной заинтересованности у исполнителя, которая особенно ярко видна в этюдах где студент не только воспроизводит сюжет им сочиненный или наблюденный, но и “отстаивает” его перед лицом класса, предлагает свою трактовку событий и т.д. По сути, это и есть самое важное в воспитании актера-личности - помочь в выражении глубоко личного мироощущения студента средствами актерской профессии. Очень часто педагоги сталкиваются в своей среде с такими оценками этюдов, как “правильно” и “неправильно”, “верно” и “неверно”. Речь идет о соблюдении исполнителями определенных правил, канонов, почерпнутых нами в “системе” Станиславского. Так, к примеру, разбирая механизм оценки, педагог обращает внимание на то, что студент в первой ее фазе остро воспринял событие, во второй накопил эмоциональную информацию и в третьей вяло вышел из нее (оценки), переменив действие, по мнению педагога, недостаточно активно. C точки зрения “театральной науки”, это бесспорно верный разбор, который, однако, учитывает лишь “букву” “системы” а не ее “дух”. Ставшее ныне объектом иронии пресловутое “верю” и “не верю”, порою гораздо более точно выражают суть происходившего в этюде, чем набор выверенных технологических замечаний, облеченных в безупречную терминологию. Чему мы верим? Это - вопрос вопросов… Мне кажется, что особенно в этюде мы верим, в первую очередь, в глубину вымысла исполнителя, в силу его воображения, создающую иллюзию другой, - сценической жизни. Известный театральны педагог А.И. Романцов, довольно негативно воспринимающий этюды на память физических действий и ощущений, вместе с тем отмечает их важную роль в развитии актерской фантазии, мироощущения личности: “Не могу не упомянуть здесь имя удивительного и, по моему, лучшего на сегодня театрального и кинорежиссера России Петра Наумовича Фоменко. Он стал тем, что он есть сейчас, только после того, как злосчастной волею судьбы (а на самом-то деле, как оказалось, счастливой), был выброшен из города Петербурга и, получив мастерскую в ГИТИСе, воспитал целую плеяду молодых артистов. Не знаю, как сумел режиссер так любовно и осторожно вырастить эту компанию индивидуальностей - очевидно, только из-за собственной, фоменковской, актерской природы. Эта природа не позволяет ему насиловать природу юных артистов и вынуждать их лгать и притворяться. Он, по-видимому, воспринимает эту ложь, как собственную физическую боль. Как человек с абсолютным слухом воспринимает фальшивую ноту, вполне выносимую нормальными ушами. Студенты его были артистами уже на первом курсе. Художниками были. Помню, как молодой человек, примерив на себя какого-то кенгуру, блуждал среди воображаемых кустов, отыскивая воображаемые ягодки. Думаю, что малину. Хотя… откуда в Австралии малина. Но в Австралии он не бывал, а малину любил, очевидно, с детства. И когда он ягодку все-таки положил в рот, по лицу его (или по морде?) было явно - малина и все! Полный карман себе набил. На животе. И ушел” [11] .