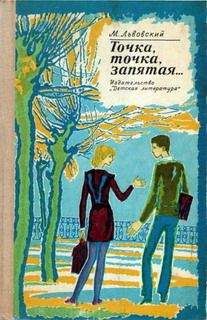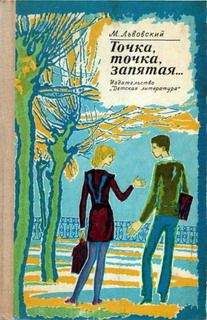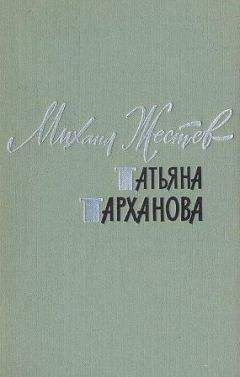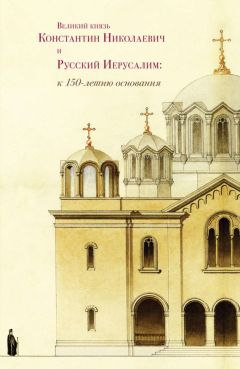Фаина Гримберг - Андрей Николаевич на рандеву, или ниспровержение прототипов
„Теперь я пробегаю в мыслях все прошедшее. В 1798 году мы познакомились, два года любили друг друга или были только привязаны, 801 год любили друг друга, а последнюю ночь я был счастлив. — Брат! еще раз заклинаю не забывать этой ночи, не забывать меня. Может быть чрез несколько лет мы увидимся, и эта ночь будет еще свежа в моей памяти, в моем сердце <…>{4}
Я к тебе не пропущу ни одной почты, буду всегда писать листа по три, в этом только будет состоять все мое удовольствие, я не захочу его себя лишить. Буду воображать, что все это говорю с тобою лежа в твоей комнате на твоей постеле и буду на полчаса забываться. Впрочем, и еще не отчаиваюсь. Авось еще и нынешней зимою удастся провести такую ночь. Ведь я у тебя буду иногда ночевать, приехавши в Петербург! А ты к этому времени приготовь какую-нибудь хорошую немецкую трагедию, будешь ее со мной читать, и, одним словом, проведем время так, чтоб я его мог помнить так же, как и мою счастливую, любезную ночь. Да смотри, чтоб у тебя был табак и кофе. Ты ведь будешь жить домком“.
Корректный комментарий A. Л. Зорина: „Высшим счастьем, доступным этим молодым людям, оказывается ночь на немецкий, как они это понимают, лад: с немецкой трагедией, кофе и табаком. Так достигается подлинное родство душ, дарящее высшее наслаждение.“
Я, к стыду своему, никогда не видела (и почему-то и не рвусь увидеть), как же они в действительности происходят, эти все фелляции и замечательный coitus per anum (нет, я не рвусь; я чистый теоретик); но на этом небесном фоне корректного комментария А. Л. Зорина я вижу отчетливо всю бездну своей развращенности и наивности… Почему? А потому что у меня нет сомнений в том, как провели свою счастливую ночь А. Кайсаров и Ан. Тургенев. Более того, оба они были юноши скорее „общественного“ нежели „семейного“ воспитания (Тургенев, впрочем, в меньшей степени), привыкшие, как это определял Кайсаров: „жить всегда в артели“ (см. Ю. М. Лотман „Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени“)…
И все-таки, все-таки… начнем мы (я то есть) покамест не с Андрея Ивановича Тургенева, а вот именно с Андрея Николаевича, и с его создателя, другого Тургенева, Ивана Сергеевича…
Если принципиально не превращать моего любимого Льва Николаевича Толстого в этакого несколько идиотического „описателя“ своих родственников, друзей и случайно встреченных незнакомых; то есть если отбросить заводящую исследователя в унылый тупик (и бесконечный!) пресловутую „теорию прототипов“; и если, соответственно, признать, что котенок рождается от кошки, а яблоко вырастает на яблоне, то и в литературном процессе текст рождается в результате непростого взаимодействия других текстов. И, стало быть, для того, чтобы засесть писать „Анну Каренину“, необходимо не: 1) столкнуться нос к носу с дочерью Пушкина и 2) нанять в Ясную Поляну управителя Фоканыча; а необходимо: 1) вдумчиво прочесть „Каменного гостя“ (все тот же самый Пушкин, только уже не в качестве производителя дочерей, а в качестве создателя текстов) и 2) столь же вдумчиво прочесть повесть И. С. Тургенева „Андрей Колосов“… Однако „Анну Каренину я разбираю в другом месте, не здесь и не сейчас; и потому сейчас только ограничусь одним замечанием: ни в коем случае не следует начинать раскладку: „Aга! Каренин — командор, Анна — донна Анна; Андрей Колосов — Левин? Вронский?“… Оно всё по-другому, немножечко потруднее… Но я полагаю, что значимость „Андрея Колосова“ и „Трех встреч“ именно в „системе раскрытия первоисточников“ знаменитого романа Толстого не подлежит сомнению…
Некоторое невнимание исследователей к ранней прозе Тургенева, конечно, печально. Но однако послушаем мнение молодого Тургенева по интересующим нас (здесь и сейчас) вопросам.
Однажды вечером несколько еще довольно молодых, но уже переживших первую молодость, представителей дворянского сословия сидели перед, камином и беседовали. И вот один из них, „небольшой бледный человечек“ по имени Николай Алексеевич рассказал о своем знакомстве с личностью необыкновенной. Шестнадцати лет Николай Алексеевич сделался студентом. Женщин он „боялся“. Но юноша, воспитанный в системе представлений о женщинах, как о существах „иных“, „других“; о существах, подлежащие „покорению“, „пленению“, „взятию“, и должен их „бояться“. И должен предаться нормативным отношениям „гомо“, „артельным“, „дружеским“ отношениям. И в этих отношениях естественно выделяется для него некий „вестник, предвестник истинной любви“ (как Розалинда для Ромео предвещает Джульетту) „В числе моих новых друзей находился один довольно порядочный и добрый малый… Этот Бобов… как кажется, полюбил меня. И я его… знаете ли, не то чтоб влюбил, не то чтоб не любил, так как-то…“ Глагол „любить“ говорит (пользуясь определением А. Л. Зорина) об определенного рода „душевной температуре“, и (что бы там ни рассуждать о пресловутой „двусмысленности“) просто-напросто о тех самых отношениях „гомо“ (впрочем, конечно, эротических, а не сексуальных).
Но вот Бобов знакомит Николая с Андреем Колосовым, „необыкновенным человеком“. Андрей Колосов — „признанный объект коллективного обожания“. Войти в число его поклонников — честь. Но попытки выделить себя в этом „числе“, претендовать на „нечто большее“ неминуемо приведут если и не к враждебному напрямую, то уж во всяком случае к насмешливо-ироническому отношению этого самого „числа“. И — как мы далее увидим — Андрей уже из этого „числа“ сделал свой выбор; выбор, разумеется, нимало не удовлетворяющий „число“ (пресловутое „что он в нем нашел?“). Но… „числу“ приходится мириться…
Каков же Колосов в восприятии Николая, Бобова и прочего „числа“? В чем она, „необыкновенность“ Колосова?
„Он был роста довольно высокого, строен, ловок и весьма недурен собою. Его лицо… то особенное „нечто“, о котором я сейчас упомянул, состояло у Колосова в беззаботно веселом и смелом выражении лица да еще в улыбке чрезвычайно пленительной… вы, господа, не можете себе представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно любовались им; его слова, его взгляды, его движения дышали такой юношеской прелестью, что все его товарищи были влюблены в него по уши…“ В одном из прижизненных изданий еще ярче: „… такая невыразимая красота покоилась на этом прекрасном юноше, что все его товарищи были влюблены в него по уши“. То есть „товарищи“ были „влюблены“ именно за эту самую „невыразимую красоту“! С позиций „натуральной сексуальности“, „гетеросексуальности“ товарищи Андрея Колосова поступали, конечно, дурно, любя его. По канонам „отношений в мужском коллективе“, принятый в „гетеросексуальном обществе“, Колосова и вовсе не следовало ценить; рассказчик это сам понимает, но и он и слушатели понимают также, что Колосов ценен именно в качестве объекта отношений „гомо“. Помимо „невыразимой красоты“, Колосова отличает еще одно качество, роднящее его с „идеальной партнершей“ в системе гетеросексуальных отношений: Андрей Колосов — естествен. „Колосов сам не чувствовал своего могущества; он не признавал в себе тех достоинств, которыми люди{5} привыкли гордиться; и потому был чрезвычайно прост и скромен, разумеется, не „молчалинскою скромностию“. Разумеется! Пресловутая „молчалинская скромность“ — презренное для „мужчины“ свойство в системе отношений „гетеро“; свойство, маркирующее достойную презрения социальную зависимость субъекта, его приниженное положение в иерархии „должностных“, „общественных“ отношений. „Простота и скромность“ Колосова представляют собой очарование той самой естественности, столь ценимой у „партнера“ в системе „гомо“ и столь желанной у „партнерши идеальной“ в системе „гетеро“. „Он был одарен весьма ясным и здравым рассудком{6}, говорил не красно, но чрезвычайно увлекательно, и до того чуждался всякой лжи, что в его присутствии даже привычные лгунишки прикусывали язычок“…
Итак, Андрей Колосов не умел „красно“, то есть „хорошо“ говорить; речь его увлекала, стало быть, своей (опять же) естественной правдивостью… И тут… самое время… обратиться к рассказу австрийской писательницы Ингеборг Бахман „Вильдермут“. Вильдермут — судья, Вильдермут ищет „истину“ (или — по крайней мере — нелживость). „Истина“ для Вильдермута равна другому понятию, все той же „естественности“. Для Вильдермута существуют как бы две разновидности „истины“: „мужская“, „судейская“, „истина красного говорения“; и „женская“ — „истина“ говорения „плохого“, но „увлекательного“. „Умение“ жены „говорить красно“ маскулинизирует ее в восприятии Вильдермута. В системе отношений „гетеро“ это самое „красное говорение“ — мужское престижное качество. Оно неестественно и притворно для женщины; героя шокирует, когда жена лжет, будто в детстве „всегда играла только с мальчиками и всегда ходила в штанишках“; ему противно, что она возводит на себя эту дурную напраслину. И напротив, „истинная женщина“, возлюбленная Вильдермута, говорит „не красно“, но убедительно, „увлекательно“. „…она запиналась, с трудом подыскивая слова, но когда она их находила… вдруг звучали фразы, изумлявшие своей откровенностью…“