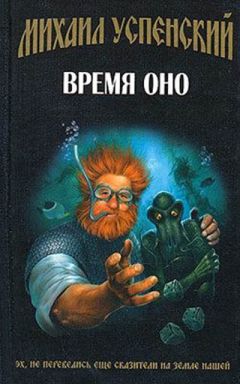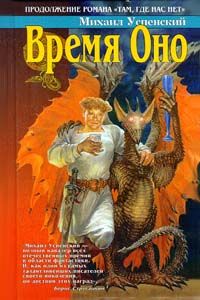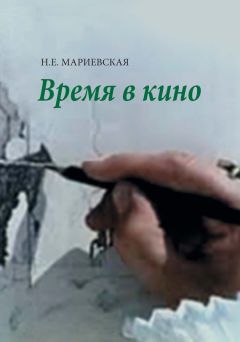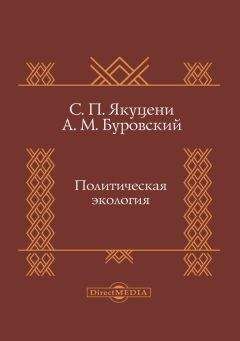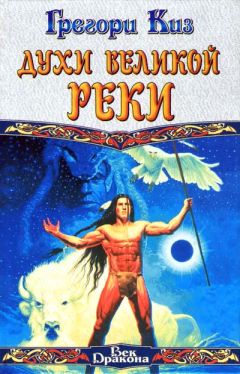Михаил Ратгауз - О Берлинской школе. Тихая революция в европейском кино
А. Ш. – Нет никакого смысла придерживаться правил игры, если не хочешь их соблюдать. Они же мои. А в «Орли» вместе с решением снимать в аэропорту, ничего в нем специально не блокируя, я вдруг ощутила возможными вещи, которые раньше считала невозможными. Когда у меня есть персонажи, которые плотно окружены таким количеством людей, конечно, у меня возникает потребность на них сфокусироваться. Еще когда мы дома, за столом это решили, я сказала Райнхольду[22]3: «Наконец-то, мы с тобой хоть разок сделаем зум!» (смеется). Так же было и с музыкой. Почему в этот момент не может быть слышна эта песня, абсолютно примитивно, ни по какой другой причине, кроме моего желания здесь ее услышать? Она приходит с ясного неба, в буквальном смысле слова.
М. Р. – Удивительным образом эта песня функционирует тоже как разрыв. Вы однажды сказали, что с удовольствием разделяете изображение и звук. Например, звук сообщает нам то, чего нет в кадре, и мы не видим того, что видят герои, мы должны это сами себе представить. Но вы оговорились, что отделяете звук от картинки не в том смысле, что берете звук одной сцены и накладываете его на другую. Тем не менее, в самом финале «Орли» вы поступаете именно так: звук диалога вдруг не синхронизирован с говорящими.
А. Ш. – Вы говорите о самой последней сцене в машине?
М. Р. – Именно.
А. Ш. – Это ошибка на DVD. Я ее заметила, когда DVD уже давно продавался. Но, честно говоря, да, это разрыв, но так ли уж он неуместен?
М. Р. – Поразительно. На меня эта ошибка подействовала, как и другие ваши разрывы, так же отстраняюще и освобождающе. Вы сказали, что для вас очень важно, чтобы зритель не забывал, что он смотрит фильм. Но сами персонажи в ваших фильмах часто живут бессознательно. Они не знают, что им делать, и они не понимают себя. Почему для нас, зрителей, важно осознавать, что мы живем бессознательно?
А. Ш. – В нашей способности думать заложено величайшее счастье. Обладать мыслью, о которой ты думаешь, что она достойна быть помысленной, я считаю счастливейшим состоянием, которое человека от многого спасает. Поэтому для меня думать – это исключительно важно. И я не хочу делать фильмы для того, чтобы люди перестали думать. Это не имеет никакого отношения к способу моей работы.
М. Р. – Вы однажды процитировали Рильке, в буквальном переводе это место звучит: «Ты должен изменить свою жизнь». А жизнь можно вообще изменить?
А. Ш. – Я считаю, что важно думать над этим вопросом, хотя бы над ним думать. К какому ты результату придешь, неизвестно. И это занятие может быть очень болезненным. Если бы я могла, я, может быть, так и поступила, а не писала бы сценарии и не снимала фильмы. Но себя ведь спрашиваешь об этом, верно?
М. Р. – На ретроспективе Берлинской школы в Москве речь шла о самом этом феномене. В каких отношениях вы с ним находитесь? Стоило ли вообще появляться на свет такому понятию? Это помогло вам или помешало?
А. Ш. – Я могу ответить на это только самым общим образом и вполне предсказуемо. Конечно, это понятие полезно, потому что, благодаря ему, фильмы показываются больше. Поэтому с моей стороны было бы глупо, если бы я сказала, что мне оно мешает. С другой стороны, когда находишься внутри, понимаешь, что всех причесывают под одну гребенку. И это, конечно, невесело. Но самое лучшее – это то, что некоторые режиссеры мне персонально очень нравятся.
М. Р. – У меня складывается впечатление, что ваши коллеги движутся в сторону большего нарратива, повествования.
А. Ш. – В моем случае у вас такое ощущение появиться не должно, в «Орли» нарратива не больше.
М. Р. – «Орли» прямо-таки сопротивляется этому. Я знаю, что вы готовы к новому фильму, «Сказочный путь». Как обстоят с ним дела?
А. Ш. – Есть сценарий, который я хотела снимать в прошлом году, но не получила на него денег. Я пытаюсь найти их по-прежнему, но шансы на это… я не знаю.
М. Р. – Я читал его совсем короткий синопсис. Меня удивило, что в течение фильма проходят 30 лет, что для вас совсем ново. Вы никогда не работали с такими длинными временными промежутками.
А. Ш. – Там есть вещи, которые я никогда не делала. Но, тем не менее, я останусь собой. Я думаю.
Когда один важнее миллиона. Разговор с Ульрихом Кёлером
Татьяна Кирьянова, Василий Корецкий
Т. К., В. К. – В кинокритике очень сильны эсхатологические настроения. Мы живем в постоянном ощущении смены вех. Не кажется ли вам, что кинематограф и, правда, стоит на границе? Что все, что было актуальным в нулевые, стремительно выходит в тираж и вот-вот должно появиться что-то радикально другое?
У. К. – Знаете, когда я начал снимать свой первый фильм, «Бунгало», мне тоже казалось, что в кинематографе не происходит ничего значительного со времен появления нового иранского кино – Махмальбафа, Киаростами, Панахи. И тут меня стали приглашать на фестивали, и я обнаружил, что в мире снимается множество отличных фильмов. Тогда я открыл для себя Апичатпонга Вирасетакула. Или Хартмут Битомски в 1970-х жаловался в журнале Filmkritik, что наступила пустота. А для меня 1970-е – главный источник вдохновения, когда Йонас Мекас снял свои лучшие работы, Годар – интереснейшее видео, а Кассаветис – «Премьеру». Так что потребность закрыть эпоху больше говорит лично о вас, чем об эпохе. Это субъективное желание, а не объективная истина.
Т. К., В. К. – Вы говорите о непрерывном появлении нового в противовес нашему представлению о том, что оно появляется рывками, скачками, разделенными стагнацией. Но разве цифра не меняет саму суть кино?
У. К. – Я помню все эти рассуждения Вима Вендерса о том, как цифровые технологии изменят мир. Не думаю, что технологическое изобретение само по себе способно породить новую форму искусства. Конечно, когда в эпоху Ренессанса изобрели масляные краски и художники смогли отказаться от темперы, это было важно, но Возрождение началось все-таки по другим причинам. Да, цифровые технологии стали экономическим инструментом – теперь Лав Диас может снять фильм за тысячу долларов. Хотя в отношении цифры лично я веду себя старомодно, я по-прежнему снимаю для кинотеатров, но мои фильмы смотрят почти исключительно на DVD или по телевизору. Вы разве смотрели мои фильмы в кино?
Еще один эффект дигитализации в том, что старое ничуть не теряет актуальности. В мире, где интернет делает доступным все, когда разные периоды истории кино как бы существуют одновременно, вряд ли появится один магистральный тренд, который все изменит. Кроме того, я не думаю, что авторы фильмов сами мыслят в таких категориях – это дело кинокритиков. Я просто снимаю так, как мне нравится, о том, что меня интересует. Я не рассматриваю себя как часть истории кино. Это не моя работа. Но если вы хотите сказать, что мои фильмы конвенциональны, я готов поговорить об этом, потому что кино, которое мы снимаем, и вправду не самое радикальное. Оно не бросает вызов традиционному нарративу – во всяком случае, не так решительно, как фильмы Годара или Киаростами.
Т. К., В. К. – Нам как раз кажется, что фиксация микромеханики обыденности, которая происходит в ваших фильмах и в фильмах других «берлинцев», – это подход более радикальный, чем любая деконструкция.
У. К. – Одна из главных тем моего фильма «Сонная болезнь» – это невозможность проникновения в жизнь других. Невозможность изменить жизнь других снаружи. Не уверен, что это изящная формулировка, но, думаю, мысль моя понятна. И, конечно, когда мы все-таки попадаем в этот микрокосм, мы обнаруживаем в нем все то же, что есть и в большом мире.
Т. К., В. К. – Вы позволяете этому потоку жизни возникать естественным образом на площадке? Или вы его тщательно моде ли руете?
У. К. – Я, к сожалению, control freaк. Кино – дорогое занятие, и у меня обычно очень мало времени на площадке. Но мне нравятся фильмы Уорхола и Киаростами той свободой, которую они предоставляют ситуациям, тем, как они позволяют событиям просто случаться перед камерой, свободной волей, которой обладают актеры. Я бы, конечно, хотел изменить свой метод в сторону большей импровизации. Но сейчас сама съемка для меня – это, к сожалению, наименее творческая часть процесса. Честно говоря, если бы я был более талантлив, я снимал бы документальное кино. Я пробовал, но чувствовал себя некомфортно.
Т. К., В. К. – А как вам сегодняшний бум документального?
У. К. – Я не думаю, что реальность можно отразить в фильме один к одному. Многие документальные фильмы – например, Майкла Мура – предлагают слишком прозрачное объяснение происходящего в мире, слишком простое. Такое кино мне смотреть сложно, потому что оно выстраивает ложные связи между явлениями, оно создает иллюзию того, что существует очень четкая причинно-следственная цепь. Но мир устроен сложнее.