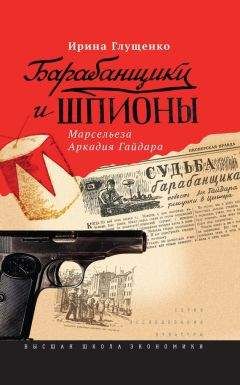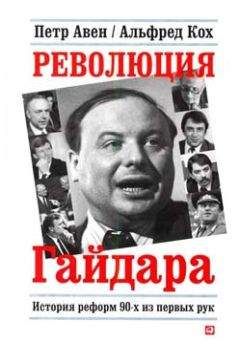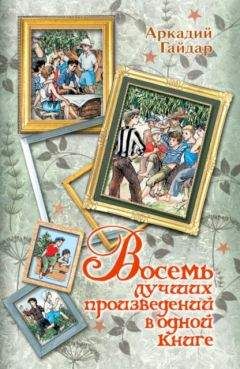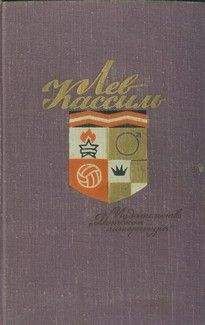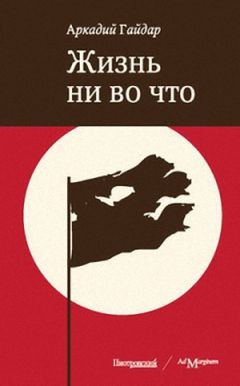Сергей Романовский - "Притащенная" наука
Традиции эти были заложены М.В. Ломоносовым в 40 – 60-х годах XVIII века. На самом деле, русского человека всё, что успел сделать Ломоносов для науки, впечатляло: неграмотный парень, великовозрастный ученик Славяно-греко-латинской академии, затем студент (на казенном коште) одного из провинциальных немецких университетов, обучавшийся там азам горного дела и более практически ничему, он азы исследовательского процесса постигал сам и тем не менее сумел на долгие годы взъерошить практически всю русскую науку. Именно по этим причинам подход к науке, который исповедовал Ломоносов, во многом стал определяющим для развития нашей науки вплоть до настоящего времени.
Тем более, что господствовавший у нас почти до конца XX столетия тоталитаризм как нельзя лучше способствовал их укоренению и развитию. Как это ни странно, работы самого Ломоносова тут не при чем. Просто и в этом сказалась его гениальная прозорливость: он заложил именно тот базис сугубо русского подхода к науке, который более всего корреспондировал с отношением к науке российского государства.
Более того, Ломоносов стал несокрушимым символом зарождавшейся русской науки, богатой талантами «и не до конца раскрывшейся. У него возникали блестящие идеи, но отсутствовала дисциплина; он неуверенно пользовался математикой и распылял свои усилия по разным областям» [54].
Кумиром Ломоносова, как известно, был Петр Великий. И не зря. Натуры они родственные во многом. И роднило их прежде всего нетерпение, а потому торопливость, жажда объять своей неуемной энергией все, отсюда – столь полярные начинания и даже разбросанность, отсюда же – неравноценность сделанного.
Вне сомнения, у Ломоносова хватило бы дарований, займись он только физикой или химией, навсегда связать свое имя с конкретным научным открытием в одной из этих наук. Но он занимался сразу всем, а потому, ничего не открыв конкретно, он до многого самостоятельно додумался и многое «угадал» (В.И. Вернадский). Но догадки, какими бы прозорливыми они ни были, еще не доказательства. Такие «догадливые» чаще выводят на верную тропу усердных экспериментаторов и те аргументированно вписывают свое имя в историю науки, навсегда связав его с чем-то конкретным.
Вероятно, надо заметить следующее обстоятельство, ранее почему-то ускользавшее от внимания исследователей. Дело в том, что Россия – не грех и повторить – не выстрадала свою науку, она ее получила в готовом виде, причем западноевропейского образца. Поэтому традиции европейской науки оказались лицом к лицу с привычным для русского человека целостным, идущим от религиозных традиций, миросозерцанием. Мир для русского человека всегда был един и неделим, да и себя он ему не противопоставлял.
Отсюда и желание обобщенной, «приближенной к жизни» постановке научных проблем, стремление понять мир в его единстве. Западные же ученые завезли в Россию принципиально иной взгляд на мир и на науку. Задачи они ставили конкретные и доводили их до конца, работу делали педантично, с мелочной дотошностью устраняя любые неясности, ценили факты, наблюдения и с неохотой пускались в рассуждения вокруг них.
Таким образом, в лице Ломоносова русская наука противопоставила европейской свой подход к естественнонаучному творчеству: всеохватность проблематики, отчетливую неприязнь к специализации, ведущей к узколобости, взаимоотчуждению ученых и, как итог, к оторванности науки от потребностей жизни.
Подобные традиции оказались весьма живучи в русской науке. Уже в 40-х годах XIX века А.И. Герцен в своих философско-науковедческих работах «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» доказывал, что современная наука – всего лишь промежуточная стадия подлинной науки, поэтому тратить силы и время на ее изучение не стоит; вот придет подлинная наука, тогда, мол, и надо заняться ею вплотную. Она будет более совершенной а, следовательно, и более доступной для широкой публики.
Из подобной логики вытекала «та дикая смесь пиетета и снисходительности, мистических надежд и подозрительности, с которыми, к сожалению, и по сей день приходится часто сталкиваться в нашей стране и которые, как это ни странно, мы обнаруживаем у самого Герцена, когда от критики дилетантов он переходит к критике современных ученых за чрезмерную специализацию, формализм, оторванность от жизни и другие “грехи”» [55].
Такое отношение к науке в целом стало для русских мыслителей традиционным, они всегда предъявляли ей повышенные требования, не признавая ни эмпиризм, ни редукционизм, не относя к категории «научных» ни частные теории, ни отдельные факты.
В 1877 г. философ В.С. Соловьев в статье «Три силы» так ниспровергает современную ему науку: если «подлинной задачей науки признавать не… простое констатирование общих фактов или законов, а их действительное объяснение, то должно сказать, что в настоящее время наука совсем не существует, все же, что носит теперь это имя, представляет на самом деле только бесформенный и безразличный материал будущей истинной науки… Истинное построение науки возможно только в ее тесном внутреннем союзе с теологией и философией» [56].
Одним словом, русской душе противны мелочность и частности, ей хочется и науку развивать скачками и революционными потрясениями. Именно из-за подобных «особостей» нашего национального менталитета русский ум еще в XIX столетии пытался предъявить миру свою науку – народную и одновременно «диалектическую». Примерами таких откровений явились «русский космизм» Н. Федорова, частным случаем которого можно считать и «ноосферу» В.И. Вернадского, родившуюся, правда, уже в XX веке.
Тропу «народной науки», как видим, протоптал еще Ломоносов. Затем ее утрамбовали А.И. Герцен, В.С. Соловьев и многие другие русские мыслители XIX века. Наконец, в XX столетии по этой тропе размашистой крестьянской поступью зашагал Т.Д. Лысенко – «народный академик».
Однако все это – не более чем иллюзорный прогресс науки. Ибо только последовательное эволюционное развитие ведет к подлинно революционным прорывам в неизведанное, а нетерпеливость и опережающие толчки приводят к тому, что история как бы ускользает и вместо революционных рывков наука скатывается на обочину прогресса.
Подобное уже случалось дважды: в XVII столетии, когда родилась современная наука, мысль в России еще не проснулась и наука обошла нас стороной; да и в начале ХХ века, когда произошло рождение новейшего естествознания, его колыбелью вновь оказалась Западная Европа, Россия осталась как бы и не при чем.
Причин тому много. Основной, конечно, была изначальная отчужденность научного социума от экономической системы и его жесткая зависимость от системы политической. Подобное «российс-кое своеобразие» и вынуждало ученых искать для русской науки свой особый путь; все, что было привычным для европейских научных традиций, в России приживалось с большим трудом и обидным запаздыванием. А вокруг очевидных для любого европейца вопросов у нас велись нескончаемые споры, возносившиеся, как мы убедились, до глубокомысленных философских обобщений.
Одним из показательных примеров подобных словопрений является устойчивое пренебрежение русского ума к эмпиризму. В Европе к этой «проблеме» относились спокойно. Пока в России спорили, там совершенствовали технологию добывания новых фактов, неуклонно при этом росла культура исследовательского процесса, ученые привыкали к кропотливому рутинному труду. Это позволило, в частности, выделиться экспериментальной физике и биологии, резко поднять научный уровень геологических работ.
Причем подобное состояние русского ума не было изначальным. Когда Петр задумал создать в Петербурге Академию наук, то он жестко расставил исследовательские приоритеты: ему была нужна только прикладная наука. Если он не видел «выхода» в практические дела, то просто запрещал исследования. Так он поступил с «врачом-философом» П.В. Постниковым, в опытах Арескина с ласточкой в вакууме Петр увидел лишь жестокость по отношению к «твари безвредной» [57].
Практическая нацеленность русской науки была, как видим, задана еще ее восприемником. Затем она стала традиционной. Поэтому любой «теоретизирующий прожектер» мог стать лидером. Мы знаем уже, что ожесточенные споры о роли науки в русском обществе велись все XIX столетие. Причем громче всех звучали голоса тех, кто не имел к ней непосредственного отношения: А.И. Герцена, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского и др.
Прав В. Сойфер, что еще в многолетнем споре западников и славянофилов родилась идея «о полезности, с учетом русского характера (sic! – С.Р.) рационального практицизма, о несокрушимой сметливости русского мужика и его способности “завсегда дать фору в сто очков” образованному немцу или, хуже того, жиду-хитрецу, и все равно победителем непременно выйти. И лесковский Левша, и многочисленные герои Салтыкова-Щедрина, который также тяготел к этой побасенке, и персонажи бажовских сказов в недавнее время воображением их создателей были призваны иллюстрировать уверенность в могучих талантах русских мужиков, “университетов не проходивших”, но от природы сметливых, знающих все и находящих самобытные выходы из ситуаций, в которых иноземцы пасу-ют» [58].