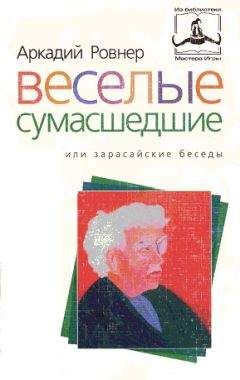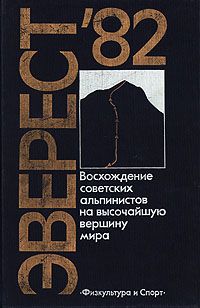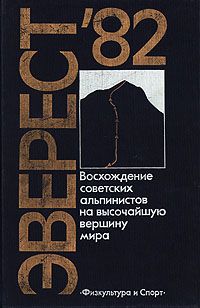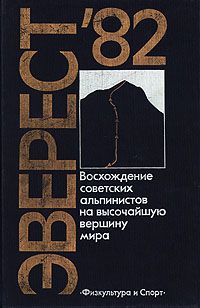Вазари Джорджо - 12 Жизнеописаний
Существо вазариевских противоречий вскрывается социологической формулой: перерождения цехового художника позднего Возрождения в придворного мастера раннего маньеризма. В этом процессе, болезненном и трудном, свободный ремесленник оказывается в Вазари зачастую сильнее служивого челядинца от искусства. На языке истории искусств это говорит, что остатки Ренессанса берут верх над ростками маньеризма. Вазари выступил на арену как раз в те критические годы, которые обозначили последнюю границу «zwis- hen der Renaissance und der Reaction, dieals Epoche der Gegen reformation im geschichtlichen, als Epoche des Manierismus im kunstgeschichtlichen zu bezeichnen ist», – «между Возрождением и реакцией, в годы, которые должны быть названы в историческом отношении эпохой контрреформации, а в историко-художественном – эпохой маньеризма» (N. Pevsner, op. cit). Вазари так и остался до конца этим человеком «пограничной черты». Новые отношения тащили его вперед, но он шел за ними, оглядываясь и нередко сопротивляясь. В этом числе «Vite» представляют собою отчетливейшее выражение великого кризиса чинквеченто, отраженного с точки зрения одолеваемого, но еще борющегося Ренессанса. В этом кроются отличия обоих изданий «Vite», раннего и позднего; этим обусловлены противоречия внутреннего состава книги: языка, стиля, оценок, суждений, общих концепций. У каждого из двух социально-художественных типов, совместившихся и Вазари, есть здесь своя собственная часть. Она выявляется без натяжек и насилий, ибо нет ничего показательнее для социологических атрибуций, нежели люди и произведения эпох кризиса. Все обнажено и все явно. Ремесленник, еще помнящий вольности и силу цеховой демократии, человек массы, который столько же может еще менять заказчика по выгоде и охоте, как и пробивать себе путь наверх, к одному из мест коллективной власти, принес в «Жизнеописания» свой народный язык, образы несложного быта, простоту оборотов речи, вкус к анекдотам и пересудам, незамысловатое злословие и похвалы, охоту к непочтительности и дерзости в отношении вышестоящих и власть имущих; нигде Вазари так не живописен и не ясен, как в обработке этих кусков «Vite», – настоящий флорентийский цеховой, судачащий на площади! С другой стороны, ничто так не пышно-пусто, трудно выведено и трудно читаемо, как «Посвящения», которые Вазари адресует папе или Медичи, и «Введения», которыми он декорирует отдельные биографии; это настоящая речь свежеиспеченного царедворца, со старательными поклонами, негибко изогнутом спиной, нарочита церемониальными интонациями, построенная в периодах, нагромождающих отвлеченности вместо понятий и роскошествующая обилием слов за счет важности мыслей, – истинное мучение слушателей этого придворного Вазари, стремящегося в погоне за чинами и выгодами прилепиться к богатейшему из господ в качестве художественного чиновника его, государевой, канцелярии. Оба стиля синтезируются в «Proemia» – «Предисловиях» к отдельным частям «Vite», достаточно простых по языку и сложных по системе изложения, являющихся подлинно гуманистическими кусками книги. В них Вазари дан по своему «среднему социальному разрезу».
Это же распределение обусловленностей наличествует в борьбе «природного» и «прекрасного» вазариевской эстетики naturale со всеми своими производными от общего положения, что искусство есть imitazione della natura, до натуралистического анекдота о Донателло, принадлежит мастеру Ренессанса; наоборот, вазариевское «bello» – художнику маньеризма. Противоречие пытается найти разрешение в эклектической формуле «наипрекраснейшего в природе», а большая четкость требований и мерил «правдоподобия» сравнительно с «красотой» снова свидетельствует о перевесе старого над новым. Это проявилось и в том, что у общей схемы художественного прогресса трех «eta», типичной для оптимистического мироощущения Возрождения, оказалась в виде простого привеска современность, которую придворный маньерист счел достаточным незатейливо присоединить, лишь бы отодвинуть явления кризиса за пределы своего служебного формуляра.
Точно так же пресловутый «тосканизм» Вазари, делающий Флоренцию и Рим центром истории искусства, выражает локальную ограниченность цехового человека, тогда как внимание позднего Вазари, времен второго издания «Vite», к североитальянской и даже зарубежной, фландрской, живописи обусловлено расширившимися горизонтами придворного, приобщившегося к вопросам дипломатической игры и вооруженной политики; и здесь опять-таки оговорки и недоумения Вазари перед типическими свойствами венецианской живописи, его попреки Тициану говорят все о том же непреодоленном флорентийско-римском возрожденчестве. Это проявляет себя и с другого конца: позицией Вазари в отношении наиболее определившихся и замечательных маньеристов. Он способен на похвалы средней выразительности Сальвиати или Вольтерра, но он ничего не понимает («so gcnzlich verstandnislos», N. Pevsner) в маньеристических новшествах Понтормо, основного мастера течения, и говорит поносные слова по адресу единственного гения маньеризма – Тинторетто, который якобы «зашел за пределы несуразности и со странностями своих композиций и чудачествами своих фантазий, выполненных, как придется, и без плана, словно бы он нарочито хотел показать, что живопись – пустая вещь. Последний бунт эпигона классицизма против новшеств надвигающегося барокко! Наконец, важнейшее различие между изданиями 1550 и 1568 годов отражает процесс перерождения напором историзма на новеллистику первой редакции «Vite», а возрожденческое сопротивление маньеризму сожительством, которое Вазари обеспечил старым элементам книги рядом с новыми.
XII
Вазари, говоря по-баратынски, нашел «друга в поколении» и читателя в потомстве». Его читали, потом изучали, ныне опять читают. Он занимал сперва, поучал затем и снова занимает теперь. Титула первого историка искусства не оспаривали у него все три с половиной столетия. Он удержал его по заслугам. Время вносило лишь поправки. Он был открывателем новой дисциплины вначале, ее величайшим авторитетом и середине и огромной ценностью сейчас. Он не знал никогда проигрыша. Его противоречивость дала ему больше исторических выгод, чем все другое. Современникам она представились многосторонней полнотой, в которой они любовно узнавали самих себя; для XVII и XVIII столетий она была непреложностью, которой нечего противопоставить; для XIX века она стала первоклассным полем приложения критицизма, где можно увлеченно плавать среди моря сомнений, догадок и открытий; наконец, «tempi nostri» – наши дни она привлекает тем, что освещает Вазари, как он есть, в двойственности и единстве, сложности и простоте – капитальным воплощением борьбы двух эпох, красочностью великого кризиса, разладом художника, который еще почтительно слушал живой голос стареющего Микеланджело и сам уже важно поучал молодого Веронезе.
Его вымыслы и достоверности сейчас уравнялись в своей социально-исторической ценности. Вазари получил право опять быть самим собою. Поколения минувшего века, говорившие ему «плагиатор» и «лгун», в этом своем простодушном негодовании кажутся сами наивными и старомодными. Если их архивные поправки и изыскательские опровержения и бесспорны, они претендуют все же на большее, нежели имеют право. Моральные свойства Вазари тут ни причем. Он явно был не хуже своих зоилов. Он был добрым человеком, усердным трудолюбцем, значительным художником и замечательным писателем. Его слова в «Conclusione» о том, что он «старался все описать сообразно с правдой» – «solo per dir il vero piu» и что «часто от трудностей он приходил в отчаяние» – «piu volte me ne sarai giu tolto per disperazione», не стоит брать под сомнение. Они, вероятно, искренни. Но только эта искренность сама есть производное исторической двойственности, в которой он пребывал. Сознавать сущность своего положения он не мог. «Никогда этого не было, да и теперь этого нет, чтобы члены общества представляли себе совокупность тех общественных отношений, при которых они живут, как нечто определенное, целостное, проникнутое таким-то началом» – сформулировали это явление авторитетнейшие ленинские уста. Но сложность и неслаженность своего труда смутно различал и он. В заключительных страницах «Vite» слишком много оговорок и пояснений. Вазари повертывается во все стороны и со всеми сторонами объясняется. Он явно боится, что его могут не понять, а то и понять превратно. Это еще хуже и опаснее. Он заботливо уточняет и аргументирует. Тут говорит то «беспокойство времени», которое он ощущал. Он выразил его меланхолической фразой на своем возрожденческом, образном жаргоне. Он сказал: «Non si put sempre aver in mano la bilanzia dell'orefice…» – «Нельзя всегда держать в руке весы ювелира…»
5 мая 1931 г. Абрам Эфрос
ЖИ3НЬ ДЖОТТО, ЖИВОПИСЦА, ВАЯТЕЛЯ И ЗОДЧЕГО ФЛОРЕНТИЙСКОГО
Если художники-живописцы обязаны природе, которая постоянно служит образцом старательного воспроизведения и подражания тем, кто умеет делать выбор лучших и прекраснейших ее сторон, – то не менее, кажется мне, обязаны они Джотто1, флорентийскому живописцу; ибо после того как войны на столько лет погребли мод развалинами приемы подлинного искусства со всем к нему относящимся, он один, хотя и родился среди неумелых мастеров, смог по дару свыше воскресить искусство, шедшее к погибели, и довел его до такой совершенной формы, что стало возможно назвать его прекрасным. И поистине было величайшим чудом, что это время, грубое и неумелое, нашло силы проявить себя в Джотто с такой мудростью, что искусство рисования, о котором в те времена люди совсем не имели понятия или весьма слабое, при его посредстве вернулось к полной жизни.