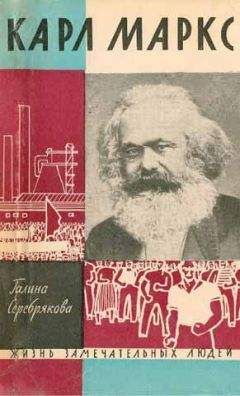Евгений Жаринов - Лекции о литературе. Диалог эпох
Знакомство Пушкина с «Неистовым Роландом» могло состояться еще в детстве. Сведения об Ариосто были включены в лицейский курс истории словесности и эстетики. Но, скорее всего, молодой поэт воспринимал гения итальянского Возрождения не в подлиннике, а через опосредованное влияние вольной французской поэзии, о чем мы уже писали выше. Итальянским Пушкин овладел намного позднее и тогда же решился перевести несколько октав на русский язык, словно решив довести до конца работу своего собрата по поэтическому цеху Батюшкова, который так и умер в сумасшедшем доме в далекой Вятке, не успев сделать достойный перевод знаменитых «золотых октав». То, что Ариосто не оставлял Пушкина в течение всей его жизни, косвенно подтверждает знаменитое вступление к поздней его поэме «Домик в Коломне» (1830 г., написано в период Болдинской осени). Там есть такие строки:
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.
Здесь мы видим, что поэт упоминает именно октаву, любимейший размер Ариосто, чьи октавы и названы были золотыми. А шутливый тон повествования, отрицающий всякую чопорность и напыщенность, словно предлагает читателю вступить с автором в диалог о проблемах литературы и поэзии. Это то, что сейчас принято называть метатекстом, т. е. текстом, который комментирует сам себя. Именно метатекст, по мнению специалистов, и помогает книге, как и любому другому произведению искусства (полотна Караваджо, фильм Феллини «8 1/2», например), вступить в диалог с тем, кто этот метатекст в данный момент воспринимает. Но такое вольное комментирование самого себя, а это и есть суть метатекста, а точнее, метапрозы (литературные произведения, затрагивающие сам процесс повествования), является ничем иным, как психологической «провокацией», или приглашением читателя к диалогу с автором. В этой ситуации автор как бы снимает с себя одежду официальности и словно надевает домашние тапочки и халат, говоря читателю: «а теперь поговорим по душам».
В раннем детстве, наверное, роясь в библиотеке отца, будущий поэт вполне мог наткнуться на какую-нибудь из поэм Вольтера, на его «Девственницу», и получить первую прививку этой самой «сладости книжной», заключенной в самой манере легкого непринужденного повествования, унаследованного от великих итальянцев, когда автор словно лепечет что-то, на первый взгляд, бессвязное, а за этой необязательностью предстают потрясающие события, полные трагизма и веселья одновременно. И главное, все описываемые события пропущены через «я» самого художника. Сам автор становится не учителем или пророком, а твоим непосредственным собеседником, с которым ты «перетираешь» (простите меня за этот низкий стиль, не удержался от вольностей) вечерней порой, «что между нами названа порой меж волком и собаки». Неоднократно биографы Пушкина, включая Тынянова, указывали, каким одиноким был будущий гений русской литературы в раннем детстве. Так, может быть, это одиночество скрашивало ему общение именно с этим «сладостным стилем» итальянцев, который так великолепно перенял Вольтер, когда автор и читатель оказываются в одном положении и художественный материал предстает не как глыба каррарского мрамора, из которого высечен знаменитый Давид Микеланджело, а как воск в податливых руках мастера, и читателю дают возможность помять его в теплых ладонях. Впоследствии в критических заметках и письмах Пушкин упоминал Ариосто неизменно как одного из величайших итальянских поэтов. И если говорить о его свободном стиле повествования, минуя уже Вольтера, то авторскую манеру рассказа Ариосто можно охарактеризовать так: автор относится к описываемым им приключениям подчеркнуто иронически, выражая свою оценку как в описаниях, так и в многочисленных лирических отступлениях, которые впоследствии стали важнейшим элементом новоевропейской поэмы. Кто из нас, воспитанных в традициях старой школы еще до «славной» эпохи ЕГЭ, не писал сочинения на тему: «Роль лирических отступлений в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?» И писали мы в этих сочинениях о том, что автор затрагивает в этих отступлениях проблемы современного ему общества («Все, чем для прихоти обильной/Торгует Лондон щепетильный/И по балтическим волнам/За лес и сало возит нам»), литературы и языка («Шишков, прости/Не знаю, как перевести»), упоминает о своей личной и даже сексуальной жизни (знаменитое отступление о дамских ножках, навеянное его влюбленностью в молодую Раевскую во время южной ссылки: «Итак, я жил в Одессе пыльной»), о своих гастрономических предпочтениях («Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет»), о своих трогательных детских воспоминаниях («В те дни, когда в садах лицея/Я безмятежно расцветал»). Иными словами, именно эти многочисленные отступления от главной темы повествования: любовь Онегина и Татьяны, и позволят В. Г. Белинскому назвать роман в стихах Пушкина «энциклопедией русской жизни». Но это будет какая-то идеализированная русская жизнь. Это будет не реальная Россия, а Россия, возникшая в поэтическом воображении автора, главного творца художественного мира, некой эстетической утопии, куда творец приглашает войти своего читателя в выдуманный мир собственного воображения, заманивая этого читателя «роскошью человеческого общения», то есть простым задушевным разговором на самые разные и порой непредсказуемые темы. У этого разговора есть своя интрига, ритм авторской речи постоянно держит вас в напряжении. Вы просто не знаете, чего ожидать в следующий момент («Был вечер. Небо меркло. Воды/Струились тихо. Жук жужжал…»). И вот вы уже чувствуете жужжание этого жука в вечернем теплом воздухе на просторах природы. Как напряжено все, как таинственно! Вас интригуют не просто словами, вас интригуют интонацией. Вот оно, самое главное, наверное, что есть в пушкинском романе, – живая интонация беседы. С вами говорят, по сути дела, из могилы, говорит давно умерший поэт, но вы при этом чувствуете, как дрожит его голос, как напряжено все его творческое «я». И вы невольно заражаетесь этим творческим импульсом великой метапрозы, то есть литературы, которая отказывается от всякой условности, от всякой искусственности и становится столь же естественной, как сама жизнь, ибо жизнь наша и есть рассказ. «Что есть жизнь? – спросил как-то у самого себя римский император-философ Марк Аврелий. – Пепел, зола и еще рассказ». Рассказ и становится квинтэссенцией каждой человеческой жизни. А умение вести непринужденное повествование является проявлением не просто высшего мастерства поэта, а проявлением важной жизненной составляющей, когда чей-то рассказ в форме дружеской беседы с вами становится оправданием всей вашей собственной жизни. Главное здесь не подвести собеседника, главное – понять, о чем с вами говорят, потому что говорят за вас, за всех тех, кому говорить, то есть писать и творить, просто не дано от природы. Таким образом, простой акт чтения превращается, благодаря метаповествованию, в творческий акт, в немалой степени оправдывающий всю вашу жизнь.
Известный отечественный филолог В. Турбин в свое время на одной из лекций рассказал очень интересный случай. Во время сталинских репрессий в теплушке, в обычном столыпинском вагоне, находились сосланные интеллигенты. Иметь при себе какие-то книги было строго запрещено. Но эти люди не мыслили себя вне слова, вне рассказа, вне жизни, причем жизни подлинной. Несчастные эти тогда решили по очереди читать отрывки из романа «Евгений Онегин». Каждый знал этот текст целиком, наверное, как во времена Гомера, когда греки из уст в уста передавали героические сказания о подвигах своих предков. Поэмы Гомера были для них тем культурным кодом, который и позволял древним эллинам быть эллинами и никем другим. Нечто подобное происходило и в России. «Онегин» был тем культурным кодом, который делал русских интеллигентов чем-то особенным, отличающимся от всего остального. И вот в промерзлой теплушке, умирая от голода и холода, люди по очереди читали «Онегина». Они готовы были умереть. Большинство из них и умерло, превратившись в лагерную пыль. Но они наизусть читали «Онегина», они, по Марку Аврелию, переходили после пепла и золы в высшую ипостась своего земного существования – в ипостась рассказа. С ними через пропасть могилы беседовал сам Пушкин, интригуя в который раз их своей таинственной интонацией: «Был вечер. Небо меркло. Воды/Струились тихо. Жук жужжал…»
За всем этим внимательно наблюдал полуграмотный охранник. В конце он сказал: «Ну вы, господа троцкисты, даете!» Интересно, пробрало этого охранника или нет? Может быть, и он смог на мгновение ощутить проникновенную пушкинскую интонацию? Как знать? Как знать? Жизнь для большинства лишь пепел и зола и лишь для немногих счастливцев она еще и рассказ.