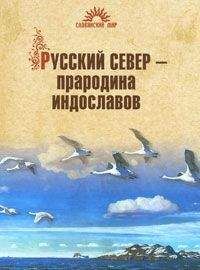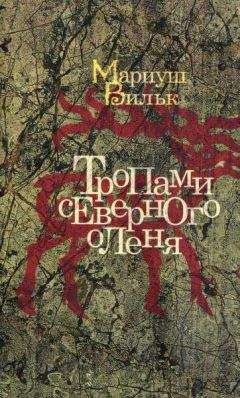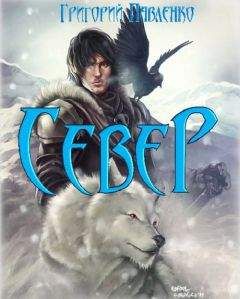Питер Брук - Пустое Пространство
В Живом театре мы каждый день начинаем репетицию с проверки того, что было сделано накануне, потому что мы никогда не уверены, что достигли истинного понимания пьесы. В Неживом театре считается, что кто-то когда-то понял и установил раз и навсегда, как нужно играть ту или иную классическую пьесу.
Так мы подходим к животрепещущей проблеме, которая довольно расплывчато называется проблемой стиля. Каждое произведение искусства имеет свой стиль, без этого оно не существует; каждая эпоха тоже имеет свой стиль. В ту минуту, когда мы пытаемся зафиксировать тот или иной стиль, мы обрекаем себя, на смерть. Я, хорошо помню, как вскоре после Пекинской оперы в ЛОЕГДОН приехала ее соперница — Китайская оперная труппа с острова Тайвань. Пекинская труппа тогда еще не оторвалась от питающих ее корней и каждый вечер заново возрождала древние образцы своего искусства; тайваньские актеры, которые показывали то же самое, копировали древние образцы по памяти: какими-то деталями пренебрегали, эффектные места подчеркивали, о смысле не беспокоились — воссоздания не происходило. Даже необычный экзотический стиль не мешал воочию увидеть разницу между живым искусством и мертвым.
Старая Пекинская опера могла служить примером театрального искусства, внешние формы которого оставались неизменными из поколения в поколение, и еще несколько лет назад казалось, что она так идеально заморожена, что сохранится навеки. Однако даже эта великолепная реликвия сегодня уже не существует. В современной Пекинской опере место императоров и принцесс заняли помещики и солдаты, и то же неправдоподобное изощренное мастерство используется теперь для того, чтобы говорить о совершенно иных проблемах.
Профессиональный театр каждый вечер приглашает в зрительный зал других людей и говорит с ними на языке человеческого поведения. Режиссер ставит спектакль, который, как правило, должен повторяться, повторяться со всем возможной тщательностью и точностью, но с того дня, когда постановка считается завершенной, что-то невидимое и спектакле начинает умирать.
В Стрэтфорде, где мы вынуждены заботиться о том, чтобы наши спектакли не сходили со сцены, до того как они полностью окупятся, мы определяем срок их жизни чисто опытным 6 У. Шекспир. «Король Лир», Перевод Б, Пастернака. М., «Искусство», 1965, стр. 9. (Прим. перев.) путем: мы видим, что ни одна постановка не может сохраниться в репертуаре дольше пяти лет. Устаревают не только прически, костюмы и грим. Все составные части спектакля — рисунок роли, выражающий определенные эмоции, телодвижения, жесты, мелодия речи — непрерывно колеблются в цене на незримой фондовой бирже. Жизнь не стоит на месте, перемены сказываются на актерах и на зрителях; другие пьесы, другие виды искусства, кино, телевидение, мелкие повседневные события непрерывно заставляют пас заново переписывать историю и вносить поправки в сегодняшние истины. В Доме моделей ктонибудь стукнет кулаком по столу и скажет: «Настало время сапожек», и с этим фактом всем придется считаться. Живой театр, который попытается игнорировать такую пошлую вещь, как мода, наверняка зачахнет. Любая театральная форма, однажды родившись, в конце концов умирает; любая театральная форма нуждается в переосмыслении, и ее новое толкование непременно будет отмечено веяниями своего времени. В этом смысле в театре все относительно. И тем не менее настоящий театр -г- это не Дом моделей; в театре есть принципы, которые не меняются, есть элементы, которые присутствуют о любом драматическом представлении. Попытки отделить вечные истины от скоропреходящих увлечений неизбежно заводят в кладбищенский тупик, это не более чем утонченный снобизм, который таит в себе гибель. Так, например, все согласны, что декорации, костюмы, музыка периодически требуют обновления; это законная добыча режиссеров-постановщиков и художников. Но когда речь заходит о внутренней жизни и поведении героев, мы чувствуем себя уже не так уверенно; нам кажется, что, если эти особенности верно отражены в самой пьесе, способы выражения могут оставаться неизменными.
С этой же проблемой связан конфликт между режиссерами и дирижерами, который возникает при постановке опер, когда две совершенно различные театральные формы — драматическая и музыкальная — рассматриваются как единое целое. Дирижер имеет дело с материей, которая позволяет человеку максимально приблизиться к выражению невидимого.
Его партитура — это изображение невидимого, а звуки извлекаются с помощью инструментов, которые почти не подвержены изменениям. Личные особенности музыкантов не имеют значения: худой кларнетист вполне в состоянии издать более мощный звук, чем его толстый коллега. Композитор и сама музыка отделены друг от друга. Поэтому музыкальная ткань создается всегда одним и тем же способом, и этот способ незачем пересматривать и переоценивать. Создатель драматического образа — человек из плоти и крови, и здесь действуют совсем иные законы. Творец и его творение неразделимы. Только обнаженный актер в какой-то мере походит на инструмент, как таковой, скажем, на скрипку, и только в том случае, если он обладает безупречной классической фигурой, не изуродованной брюшком или кривыми ногами. Балетный танцовщик иногда приближается к этому идеалу, поэтому он может воспроизводить определенные позы, не привнося в них свои личные особенности и не искажая их внешними проявлениями жизни. Но в ту минуту, когда актер надевает платье и начинает произносить какие-то слова, он вступает на зыбкую почву самовыражения и бытия, доступную также его зрителям. Поскольку профессиональная жизнь музыканта протекает в совсем иных условиях, ему трудно попять, почему традиционные сцены, которые вызывали смех у Верди или заставляли изумляться Пуччини, теперь никому не кажутся ни смешными, ни поучительными. Серьезная опера — прекрасный пример Неживого театра, доведенного до абсурда. Это обширное поле сражения, на котором идет нескончаемая битва за пустяки, это набор сюрреалистических анекдотов, порожденных стремлением доказать, что в опере все должно оставаться так, как есть. В опере все нужно изменить, но перемены в опере строго воспрещены.
И опять-таки не стоит давать волю негодованию, так как, если мы попытаемся упростить проблему и будем считать, что традиции — это и есть та преграда, которая стоит между нами и живым театром, мы снова утратим реальную почву под ногами. Мы наталкиваемся на омертвевшие элементы и понятия повсюду: в нашей сегодняшней культуре, в художественных ценностях, которые мы унаследовали от прошлого, в структуре экономики, в жизни актера, в работе театральных критиков. Рассмотрев всю совокупность этих проблем, мы убедимся, что вопреки ожиданиям противоположная точка зрения тоже имеет право на существование, потому что в Неживом театре часто бывают мучительные, незавершенные и даже вполне удачные, хоть и кратковременные, прорывы в. реальную жизнь.
В Нью-Йорке, например, наиболее омертвевшим элементом, безусловно, является экономика. Это не значит, что все созданное в Нью-Йорке никуда не годится, но театр, где из экономических соображений нельзя потратить на подготовку спектакля больше трех педель, искалечен в самой своей основе. Время — еще не все, иногда за три недели можно достигнуть удивительных результатов. Бывают случаи, когда то, что мы неточно называем алхимией или везением, приводит к поразительному взрыву активности, и тогда одно открытие следует за другим, вызывая цепную реакцию удач. Но такие случаи — редкость; здравый смысл подсказывает, что, если репетиции, как правило, должны продолжаться не больше трех недель, спектакли, как правило, от этого страдают. Эксперименты исключаются, риск невозможен. Режиссер обязан показать товар лицом, иначе он будет изгнан, а вместе с ним и актеры. Разумеется, время тоже можно использовать без всякого толка и смысла; потратить несколько месяцев на дискуссии, переживания, импровизации и не прийти ни к чему. Я знаю актера, который семь лет репетировал «Гамлета» и ни разу его не сыграл, потому что постановщик умер прежде, чем работа была завершена. С другой стороны, в спектаклях, поставленных в Советском Союзе по системе Станиславского, в течение многих лет сохраняется такой уровень исполнения, о котором мы можем только мечтать. «Берлинер ансамбль» умеет хорошо использовать время; здесь не скупятся и тратят на подготовку нового спектакля около 12 месяцев, но в результате за ряд лет этот театр создал целую серию постановок, каждая из которых по-своему замечательна и раскрывает до конца все возможности труппы. Пользуясь упрощенным языком дельцов. «Берлинер ансамбль» — более выгодное предприятие, чем обычный коммерческий театр, где наскоро состряпанные представления так редко пользуются успехом. Каждый сезон на Бродвее и в Лондоне ставится множество дорогостоящих спектаклей, которые идут одну-две недели, и лишь изредка случается чудо и появляется действительно что-то интересное. Многочисленные неудачи тем не менее нисколько не расшатали сложившуюся систему и не поколебали веру в то, что в конце концов все образуется. На Бродвее цены на билеты непрерывно растут, поэтому, хотя от сезона к сезону убытки тоже растут, каждый новый «гвоздь сезона», как это ли парадоксально, приносит больше дохода, чем предыдущий. Театр посещают пес меньше и меньше людей, а в окошечко театральной кассы в каждом отдельном случае поступают все большие и большие суммы денег, VI когда-нибудь одни последний миллионер заплатит целое состояние за то, чтобы посмотреть спектакль, на котором он будет единственным зрителем.