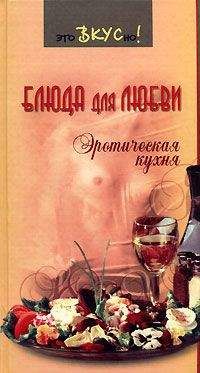Ольга Матич - Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России
Столь избыточное описание, перенасыщенное экзотизма- ми и предметами роскоши, и само «обезглавливает» хороший вкус! В нем отразилась похоть парижского денди, который додумывает то, чего нет. Немаловажно, что Клеопатра снова становится Саломеей — более привычной фигурой для европейского fin de siècle. Продолжая линию декадентской эстетики, в которой восточные хищницы взаимозаменяемы, биограф Мон- тескью Филипп Жулиан жонглирует мифологизированными образами Клеопатры, Саломеи и царицы Савской, как будто все они — эманации единого источника субверсивной женской власти, о которой мечтает его герой. По словам Жулиана, граф «без ума от Рубинштейн»: она была воплощением «плоско[гру- до]го и жестокого гермафродита, о котором он мечтал в двадцать лет»[53]. Отсылая читателя к образу дез Эссента, Жулиан описывает гомоэротическое влечение графа, называя Рубинштейн «гермафродитом» (андрогином), символом декадентского гибрида, с которым Монтескью якобы ее идентифицировал.
Кокто оставил еще более цветистое описание представления, в котором объединил эстетические дискурсы fin de siècle: ар — нуво, ориентализм, декаданс, нервное истощение и синестезию:
Музыканты в ритуальной процессии извлекали из своих высоких овальных лютней неторопливые, насыщенные аккорды, подобные дыханию рептилий, а флейтисты угловатыми движениями выдували из своих флейт такую гамму пронзительных нот, столь оглушительно раздававшихся то в верхних, то в нижних частях звукоряда, что человеческие нервы с трудом выдерживали напряжение. Затем, как фигуры на терракоте [вазы], последовали фавны с длинными белыми гривами и стройные девы с острыми локтями. <…> Наконец, шестеро ближайших слуг внесли на плечах нечто подобное черно — золотому саркофагу. Юноша неф [Нижинский] ходил вокруг него кругами, <…> в своем рвении понукая слуг, которые несли его.
Саркофаг поместили в центре храма, открыли дверцы, и оттуда подняли нечто вроде великолепной мумии, закутанной в многочисленные покрывала, и водрузили ее на сандалии на высокой подошве слоновой кости. Четыре раба начали священ
нодействовать. Они развернули первое покрывало — красное, со златоткаными лотосами и серебряными крокодилами; затем второе — зеленое, на котором золотой нитью была вышита вся история династий, потом третье — оранжевое, расцвеченное / взорвавшееся сотней ярких оттенков и так далее, вплоть до <…> двенадцатого, темно — синего, под которым проступали очертания тела женщины. Каждое покрывало удалялось в особой манере: для одного нужна была <…> тщательность, как при снятии скорлупы со спелого ореха; [для другого] — воздушное срывание лепестков розы; а одиннадцатое покрывало, самое трудное, срывалось одним рывком, подобно коре эвкалипта. Двенадцатое покрывало, темно — синее, открыло нашим взглядам г — жу Рубинштейн, которая сама сняла его — широким круглым жестом. [Она стояла] перед нами, <…> чуть склонившись вперед, как будто за ее спиной шевелились крылья ибиса <…> и в своем темном укрытии она, как и мы, была под воздействием полностью парализующей музыки своей свиты. <…> и так она стояла перед завороженной аудиторией, с пустыми / ничего не выражающими глазами, бледными щеками и приоткрытыми губами, пронзительно красивая, словно резкий запах каких‑то восточных духов. Я уже был готов восхищаться музыкой Римского — Корсакова [эта сцена исполнялась под музыку из его «Млады»], но г — жа Рубинштейн запечатлела ее в моем сердце, словно длинная булавка с синей головкой, пригвоздившая мотылька с едва подрагивающими крыльями[54].
Это мастерское синестетическое описание, в котором соединяются резкие, яркие цвета и пронзительные звуки, возбуждающие и нервирующие как Клеопатру, так и зрителей. Сбрасывание покрывал увлекает его воображение картинами растений и животных в духе модерна — лотосами, кожурой растений, лепестками роз, корой эвкалипта и серебряными крокодилами — в которых проявляется фетишистский взгляд Кокто. И как искусно он пересаживает трепещущие крылья ибиса с Рубинштейн на тело зрителя в конце отрывка: поэт представляет себя слабым мотыльком, запутавшимся в покрывалах царицы, которая пронзает его, превратившись в булавку, так же, как она символически пронзает Амуна на сцене. Зловещая булавка напоминает орнамент корсажа от Лалик — стрекозу с очень длинным фаллическим хвостом. Во рту стрекоза держит наполовину съеденное человеческое тело (правда, не мужское, а женское).
Ида Рубинштейн в роли Клеопатры
Изображение зрителя — денди мотыльком, пронзенным булавкой (подвергшимся пенетрации), обращает нас к жестокой стороне природы, где самка биологического вида уничтожает самца. Это не образы «Умирающего лебедя» Фокина или женской истерии, а фантазия о смертоносной власти женщины. Заключение Рубинштейн в качестве мумии в саркофаге лишь
Лалик. Брошка
временно: он наблюдает, допустим, в театральный бинокль, как она появляется из покрывал, чтобы, в духе фаллической женщины, пронзить его тело. Я бы сказала, что именно таков скрытый смысл описания, обращенный к декадентскому подсознанию мужчины — зрителя того времени[55].
Вера Каралли в роли «Умирающего лебедя»
Вера Каралли (1888–1972), прима Московского императорского балета, тоже выступавшая в первом сезоне «Русского балета», была также звездой немого кино: она снялась во многих фильмах Евгения Бауэра, одного из самых заметных дореволюционных русских режиссеров кино. В «Умирающем лебеде» — фильме, благосклонно принятом критикой, — она играет роль немой балерины Гизеллы Раччио, прославившейся исполнением «Умирающего лебедя». Имя ее героини в фильме — явная отсылка к романтическому балету XIX века «Жизель», в котором, что существенно, танец связывался с женским безумием. Исполнение внезапного помешательства Жизель на почве ревности напоминало конвульсивные движения истеричек Шарко.
Вера Карами
Если «Умирающий лебедь» является, как полагает Тим Шолл, воплощением «пафоса немоты»[56], то Гизелла — его идеальная исполнительница. Связь танца и немоты снова напоминает нам о состоянии истерии, в число классических симптомов которого, по Фрейду, входит явление, которое он называет то афонией, то потерей речи. Он подробно описывает этот симптом в «Фрагменте анализа истерии» — классическом декадентском тексте эпохи. «В свое время в клинике Шарко, — пишет Фрейд, — я видел сам и слышал от других, что у лиц с истерическим мутизмом речь начинала замещаться письмом»[57], что предполагает отношения дополнительной дистрибуции между письмом и речью — как в фильме Бауэра. Замена речи выразительным жестом — суть эстетической стратегии танца, в особенности балета, в котором движения танцора подкрепляются безмолвной музыкой.
Немота Гизеллы в фильме изображена рукописными титрами. Написанные ею слова отличаются от произносимых, которые в титрах передаются печатным текстом. Немота как изначальная отличительная черта молодой женщины подчеркивает иронию безмолвного танца умирающего лебедя, смерть которого в природе связана прежде всего с пронзительным звуком — лебединой песней, а не с безмолвным биением крыльев. Возможно, безгласность Гизеллы отсылает к так называемому «немому лебедю» (cygnus olor, лебедь — шипун), с белым оперением и оранжевым клювом, с черным узлом у основания клюва, гораздо менее громогласному, чем большинство лебедей. И конечно, немота символизирует само немое кино: в случае фильма «Умирающий лебедь» она воспроизводит принцип вытеснения звука в область экспрессивного жеста. Фильм Бауэра был снят в 1916 г., а вышел на экраны в 1917 г., за месяц до революции. Ретроспективно его можно назвать «лебединой песней» дореволюционного русского кинематографа, как хореография Фокина, считается, знаменует конец «старого балета».
Можно провести и еще одну параллель между Каралли и Павловой и сопоставить «Умирающего лебедя» с Павловой в роли немой в американском фильме «Немая из Портичи» (кинокомпания «Universal», 1916). Павлова снялась в фильме в 1915 г. во время своего тура по США. По ее словам, она хотела, чтобы оперу Даниэля — Франсуа Обера «Немая из Портичи» («La Muetta de Portici») переложили для экрана, а она сыграла бы роль Фенеллы — это итальянское имя напоминает о Гизел- ле, героине фильма Бауэра, но первая ассоциация, конечно, с балетной героиней Жизелью, самой известной большой балетной ролью Павловой. Других совпадений между фильмами Бауэра и Лоис Вебер нет, за исключением того, что у Павловой, как и Каралли, было в «Немой из Портичи» несколько танцевальных сцен, в том числе экстатическая пляска на пляже в Лос — Анджелесе. Однако самое поразительное — это немота в обоих фильмах, сходство, особенно примечательное в немом кино.