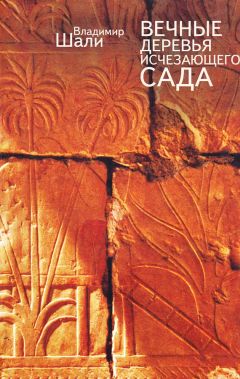Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004
Историк не заметить этого конечно не может, но, успокаиваясь в своем цинизме, констатирует «противоречия» и «непоследовательность» Сенеки: учит бедности, а живет в богатстве. С такими противоречиями исследователь мирится очень легко, они укладываются в общую схему универсального несовпадения идеального и реального, разве не так?
Читаем старого исследователя. Стоический человек есть произведение искусства, причем божественного, и в этом совершенстве есть «фаталистическая предопределенность», потому что «божество это мало чем отличается от космоса вообще, а космос трактуется как универсальное государство». Космос смыкается с божеством и диктует законы государству и отдельной личности. Но ведь космос в отличие от государства невидим, он есть только как воззрение, должно ли мое воззрение меня фаталистически предопределять? Если же человек заперт в тюрьме своих представлений, то где здесь мысль, философия? Как человек стоик мог внушить себе такой прочный сон?
«В самом Риме Стоя нашла благодатную почву. Римляне по складу характера народ более практический, которому гораздо важнее было уметь использовать вещи, нежели бескорыстно созерцать первоначала. Стоя с ее сравнительно небольшим метафизическим потенциалом предлагала ценности, очень согласные с культом римской доблести и римским национальным мирочувствием вообще…Выгода от союза Рима и Стои была, впрочем, обоюдной. Стоя впервые обрела на римской почве реальное воплощение идеала мудрости в лице носителей "римской доблести" — прежде всего, Катона Утического. Тем самым учение Стои начало превращаться в пластически оформленный стиль жизни" (Столяров, Стоя и стоицизм 288–289).
Наивный мудрец, говорит Лосев, примолинеен, быстро упирается в тупик, в необходимость смерти, которую принимает легко. Итак, простой до наивности — и покладистый, уместный и полезный, наверное потому что смиренный. Об этой черте, смирении, Лосев пишет с эмфазой, применяя и тут слово, несколько раз у него всплывающее при характеристике стоицизма: «неимоверный». «Поздние стоики первых двух веков нашей эры удивляют чувством чрезвычайной слабости человеческой личности, ее полного ничтожества, ее безвыходности, ее неимоверной покорности судьбе.» Там же (ИАЭ. Ранний эллинизм. М., 1979, раздел Стоицизм I в. н. э.) о религиозности стоиков: «У поздних стоиков мы замечаем неимоверно большую повышенность интереса к интимным религиозным переживаниям».
Лосев говорит свысока, этнографически, словно описывая симпатичное племя, которое смешным образом хочет быть похожим на людей, хотя шансов у них нет: они не знают истинной религии, христианства. В их религиозности есть (взгляд этнографа) и идея спасения, искупления, что Лосеву совсем смешно, как если бы дети совершали все жесты литургии и воображали себя действительно близкими к Богу: «Дело доходит до того, что эти наивные мудрецы начинают жаждать какого‑то искупления свыше, какого‑то спасения от мучительных противоречий жизни, которое даст им божество ввиду их слезных молений. Все кругом только зло, все кругом только буря мучительных и неодолимых противоречий, все кругом — ничтожно, несчастно, бессильно. Человеку остается только быть покорным судьбе и молиться о даровании какого‑то чудотворного спасения, об искуплении несчастного человеческого существа» (там же).
Для Средневековья, подарившего Сенеке христианство, у него, тайно крестившегося от апостола Петра жажда искупления и спасения была не наивна. Эпитеты Лосева, «мучительные неодолимые противоречия», «все кругом ничтожно, несчастно, бессильно», наивно перенесены в античность с самочувствия его круга, потерянного в тоталитарной стихии. Для Сенеки все кругом не ничтожно и бессильно. У него открыты глаза на яростный демонизм людей, они как для Игнатия Антиохийского для него свирепые звери и злее любых зверей; они же иногда исключительно хороши. Буйный демонизм человечества предполагает какую‑то противосилу. Какая она, очень интересно. Где и как Сенека ее видит. Насколько он берется ей служить.
Что мир полон рыщущих и рычащих зверей в человеческом облике, придает такую же интенсивную остроту жизни, как в диких джунглях, требующих ежечасной, ежеминутной настороженности. Эта ситуация к раннему христианству загадочно близка. пыльная серость, — это совсем незагадочное наше теперешнее безысходное прозаическое, в чем мы признаться не можем, мы хотим жить интересной надежной, и мы отправляем серый мир, в котором мы отчаялись, туда, в позднюю античность.
Параметры, задаваемые исследователями стоикам, не сходятся с натурой. Пыльная серость — это наша сегодняшняя проза, которую мы проецируем в прошлое, не умея в ней признаться сами. «Между Посидонием и Сенекой мы не найдем сколько‑нибудь крупных фигур». Это уравнивает и Посидония и Сенеку на общемсером фоне. «Больше известно о стоиках, приезжавших в Рим на заработки». «Человеческая личность теряла здесь не только то гордое величие, с которым она выступала в период классики…но она теряла и…» (Лосев, ук соч., цит. по Римские стоики. М.: Республика, 1995, с. 365). На заработки. теряла. Но вот Сенека. Он кончает с собой, вскрывает себе вены сидя в воде, что‑то странное в обстоятельствах его конца, похоже опять‑таки на современное самоубийство, в ванной, бритва. Посмотрим, однако, на суть дела. Он обвинен в заговоре против Нерона и не оправдывается — значит, принимает обвинение: это почетно — схватиться с могуществом, императором всемирной империи с количеством жителей 50 миллионов человек, государственной громадой, — и с каким императором, воплощением коварства и зверства. Но император молод, он еще полон уроками учителя. Сенека — его бывший первый министр. Здесь крупная дуэль, исход которой вовсе не однозначен. Нерон пока еще не всемогущий давитель. Проба сил так отчетлива, ясность целей и решимость так сильны, что победитель, Нерон, дает Сенеке и другим побежденным самим выбрать себе смерть. Похоже, что размах, ставка (Сенека мог вернуться в случае победы к своей былой ключевой роли в империи, тогда мы имели бы не одного только «стоического мудреца, Марка Аврелия, на троне), четкость этой политической игры не укладываются в воображении историков.
Общепринято, что стоицизм становится «нравственно — религиозным учением. Философия сводится к этике; этика из отвлеченного исследования блага и добродетели уже окончательно становится средством кристаллизации интимно — личностных убеждений, концентрации на жизни своего "я"» (Столяров 294). Кристаллизация, концентрация наверное здесь должна означать собирание человека — вокруг чего? «Интимность» указывает на вторую отмеченную нами черту христианства. Первая, радикализм, у Сенеки есть и апокалиптикой у его исследователей не называется, но сводится к тому же: все сводится к выбору и решению, выбор должен быть сделан, решение должно быть принято, ради этого философия, она не теория, ради этого логика, она для того чтобы не впасть в слова, остаться при деле.
Это известно. Менее обращают внимание на то, что у Сенеки природа должна быть услышана как весть, несет тайное сообщение, касающееся главного в человеке, вокруг чего взвешена его судьба. «Мы изучаем природу не ради пользы, хотя знание это содержит и полезные вещи, но ради неизведанного». Переводчик осторожен и чего не понимает, не напишет. У Сенеки стоит тут nec mercede sed miraculo, не ради выгоды а ради чуда. Фразу из предисловия к "Вопросам о природе" (1,3) «Я благодарен природе за то, что вижу ее не как многие другие, но могу проникать в ее тайны» тоже легко понять прямо наоборот, как мы теперь говорим о тайнах природы. Изучение природы, если оно отлепилось от привязки к сложившемуся и умеет видеть возможности, потенции, таинственным образом учит свободе, т. е. опять же собиранию всего существа в точке решения.
Об этом в Письме 65 к Луцилию. Здесь спор с Аристотелем, его учением о причинах вещи. «Первая причина. это сама материя. вторая. создатель; третья. форма, четвертая намеренье, с каким создается изделие». Мы читаем в справочниках, что вместо четырех аристотелевских причин стоики оставляют две, материю и то что ее создало, или вообще одну, т. е. собственно причину, вину. Отказываясь вводить различения, Сенека отпускает вещи и тело быть как они есть и как они хотят — отпускает в частности и для наблюдения, которое откроет то что оно откроет, — и выводит из материи, из тела то, что ни в каком наблюдении наблюдаться не будет, что можно увидеть или не увидеть только другим зрением, связанным со словом, с услышанным, с вестью, с учением.
Вещь, отпущенная быть как она есть, может раскрыться на свободе так, как мы ее не увидели бы, идя по рельсам аристотелевских четырех или платоновских пяти причин (у Платона кроме эйдоса еще идея, скажем, кроме образа человека и вообще человека есть идея как прообраз; люди погибают, а сама человечность, по образцу которой создается человек, пребывает и не терпит урона от людских страданий и смертей). Сенека предлагает тогда уж причислить еще одну причину, о которой сейчас не случай говорить, прежде всего потому что она слишком неожиданно и слишком задевает нас сейчас: еще одна причина вещей есть время, «без времени ничто не будет сделано».