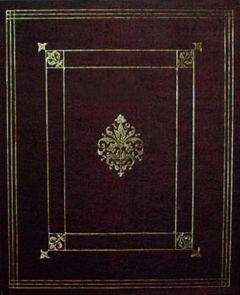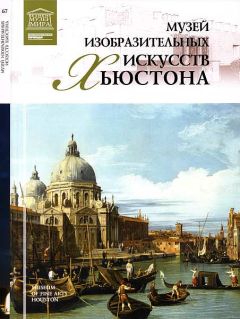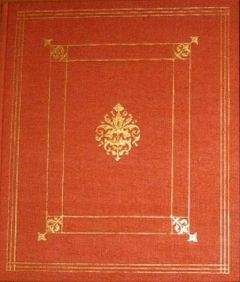Марина Бессонова - Избранные труды (сборник)
Здесь необходимо сделать отступление о проблеме взаимодействия музея как организма (со своей архитектурой, пространством, средой, имеющимися экспозициями) с новейшим художественным процессом.
* * *Актуальное искусство последних двух-трех десятилетий фактически до сих пор в музее не демонстрировалось. Исключением можно было бы считать предполагаемую в будущем выставку Бойса, правда, это будет опять-таки привычная, по визуальным средствам, графика, а не объекты и т. п. К тому же Бойс умер еще в начале 1980-х и воспринимается в качестве такого же классика, как Мур или Пикассо. Конечно, были исключения – выставка французского современного искусства из Центра им. Жоржа Помпиду «Эпоха открытий», концовка которой, представляющая собственно современных художников, опять-таки оказалась за пределами музея в нейтрально-безличном и дежурно-гостеприимном пространстве ЦДХ, понемногу сколачивающего репутацию места, где наряду с погоней за случайными выставками все же изредка можно увидеть знаменитых представителей современного артмира – будь то Раушенберг, Гилберт и Джордж, Юккер, Бэкон. Некоторое вкрапление новейшей художественной культуры внесли выставки фотомастеров – Ньютона и Новарро, правда, первая – в усеченном, фрагментарном виде, а на второй – интересны сами персонажи, собственно изыски фотоарта. Отчасти отразили тенденции живописного постмодернизма 80-х французы из галереи Кристин Кола. В конце концов, если речь идет о временных выставках, удается их как-то разместить в Союзе художников бывшего СССР, международный культурный престиж которого все-таки сильно уступает ГМИИ. Не хотелось бы, однако, чтобы наша деятельность по генерации современных эстетических идей в музее сводилась к чистой игре проективного сознания, в лучшем случае в духе бумажной архитектуры начала 1980-х, а в худшем – к бесполезному прожектерству. Для начала следует еще раз напомнить о том, что есть какая-то грань, отделяющая собственно современное искусство в интересующем нас контексте живого художественного процесса от модернистской классики ХХ столетия. Грань водораздела между живым современным искусством и наследием недавнего прошлого проходит хронологически раньше, чем рамки последних пяти или десяти лет (искусство 1980-х, искусство 1990-х и т. д.). Скорее всего, здесь точкой отсчета можно считать поп-арт, концептуализм и в целом радикальную художественную культуру 1950-х, а затем 1970–1980-х годов. Может быть, эта грань проходит еще чуть-чуть раньше, там, где происходил выход за каноны живописи начала века, или там, где применялись нетрадиционные материалы, или вводились элементы «антиэстетики» – то есть отказа от чистой пластики и т. п. Например, в европейском движении «ZERO» уже в 1950-е годы происходит выход в собственно новейшую проблематику и появляются мастера, воспринимаемые сейчас как ныне здравствующие и активные носители духа авангарда: Юккер, Раушенберг, посетивший Москву незадолго до смерти Тингели. Поэтому, такие, недавно прошедшие в Москве выставки, как Тингели, Юккер, Бэкон, Раушенберг, Куннелис, учитывая даже преклонный возраст первых трех мастеров, можно считать выставками современного искусства, а вот выставки Мура, Нольде, Родченко, Бюффе при всех их достоинствах считать таковыми нельзя. Не говоря уж о том, что не только у нас в музее, но и вообще в России по-настоящему еще не экспонировалось творчество новой живописной волны 1980-х годов – немецких новых «диких», итальянского трансавангарда, то есть тех явлений, которые ныне выделив бесспорных лидеров, таких, как Базелиц, Кифер, Луперц, Клементе, Кукт и другие, уже отошли в наименее застывший слой «музейной культуры», рассматриваясь с точки зрения последующей генерации неоконцептуалистов как достояние вчерашнего дня. В целом, если говорить о молодых или сравнительно молодых (запоздало актуализированных, как, например, Базелиц) звездах, засиявших в артмире в 1980-е и тем более в 1990-е годы, а ныне являющихся в обличье уже слегка ретроспективных ауры и авторитета, как, например, Кифер или Клементе, то их опыт фактически неведом нашему зрителю. Что касается нашего музея, то он обнаруживает странную отчужденность от контактов с таким искусством, даже если его представители оказываются в Москве. Естественно, что предложения каких-либо выставочных инициатив в музее, и собственно выход на прямой контакт с такими знаменитостями, как Клементе, не являются правомочными для научных сотрудников, это немыслимо без санкции и первичных контактных инициатив со стороны дирекции музея. Однако в этом смысле ничего не происходит. И дело здесь не в запретах: их теперь нет, напротив, для искусства, порою даже не точно и огульно причисляемого к авангарду, сейчас открыты все двери. По-видимому, дело и не в каких-ибо предвзятостях или консерватизме – в это не хотелось бы верить, да в наше время они и не могут определять культурный процесс. По-видимому, «нереагирование» музея на искусство Запада 1980–1990-х годов, как ни странно, объяснимо нереагированием обратной стороны, хотя некоторые предложения такого рода имели место, но не были вовремя подхвачены. Так, конечно, было бы интересно и нужно ознакомить зрителя с творчеством Кифера разных периодов. Само предложение о воспроизведении в нашей среде его новейшей и уже всемирно знаменитой инсталляции со старыми самолетами, соломой, фотографиями Берлина было бы интересным экспозиционным экспериментом. При всей, казалось бы, «шоковости» размещения всего этого в «нашем классическом» пространстве – это не противоречило бы духу художника с его эстетизацией шока. Наши помещения типа колоннад, Белого зала и др. вызвал бы у посвященных реминисценции с ранней постмодернистской дообъективной живописью Кифера, «классицистические» архитектурные видения которого связаны не только с темой германского тоталитаризма, но и с выявлением духа европейской архаики, сакрально архетипической праосновой зодчества, как своего рода археологические следы, проступившие через имперские руины. Конечно, был бы весьма желателен показ и такого рода живописных серий Кифера. Тем самым возник бы уникальный контекст, который через комментарий и литературу мог бы быть разъяснен нашему зрителю. К тому же для нас не секрет, что основной адресат подобной выставки – люди действительно интересующиеся современным искусством и потому хотя бы в общих чертах знакомые с постмодернистской эклектикой как поветрием или умонастроением 1980-х годов. Одновременно подобные экспонаты и экспоненты весьма логично продолжали бы исторический линейно-диохронный ряд экспозиций ХХ века, логично с ним увязываясь, независимо от того, будет ли это когда-нибудь в будущем собранием новых поступлений (даров или закупок) или же представляет автономную временную выставку, составляющую визуальную параллель постоянной экспозиции.
Таким образом, нужно почти с нуля формировать у музея репутацию места, где экспонируется не только классика, будь то старые мастера или классика ХХ века, но и все то, что так или иначе уже отстоялось, дистанцировалось во времени и вошло в европейские музеи и шире – в контекст некоего «воображаемого музея», куда попадают все герои вчерашнего дня, лидеры предшествующей генерации, твердо завоевавшие свое место в артмире.
Такая тенденция в отборе выставок не исключает и показа еще не столь авторитетных явлений, если они на уровне современной художественной европейской культуры выражают тенденции и критерии ныне господствующего новейшего «вкуса», отражают направленность, стиль и почерк времени. Важно также создать музею «имидж» заведения, где можно показать не только картины, скульптуры, графику и другие привычные формы искусства, отчасти подновленные в 1980-е «постмодернистские» годы, и не только произведения, так или иначе связанные с пикториальной парадигмой (как, например, фотоживопись), но и произведения нетрадиционные по своим средствам и материалам – объект, инсталляция, перформанс и т. п. Помимо вопросов создания предпосылок для дальнейших инициатив со стороны современных мастеров и коллекций в отношении нашего музея, когда нам, например, будут предлагать уже не Бюффе или Фиуме, а Куннелиса или Раушенберга или, скажем, Бойса, опыты работы с такого рода материалом чрезвычайно интересны для нас самих задачей некоторого преодоления материала. Ведь помнится, что при всей мотивированности размещения концовки выставки «Эпоха открытий» в ЦДХ нехваткой пространства, период 1960–1980-х годов выпал из контекста целостного восприятия выставки, не увязываясь с ним даже посвященными зрителями, ходившими порою в разные дни на экспозиции в ГМИИ и ЦДХ. Мы помним, что в процессе обсуждения этого вопроса имели место и предостережения насчет возможных диссонансов между объектами французских «новых реалистов» и «классической» атмосферой Белого зала. Такого рода рефлексию надо все же преодолеть, чтобы начать разрабатывать новую экспозиционную стратегию. Это потребует ломки стереотипов восприятия и разработки таких задач, как своего рода искусство экспонирования, проявляя при этом в равной мере тактичность и открытость, как относительно привносимой в музей концепции, так и в связи с утвердившейся в сознании сакрализации нашего музейного пространства. Отсюда наша заинтересованность в отстаивании как можно скорейшего, пусть не сразу безупречного, не бесспорного начинания таких опытов. Это важно не только для закрепления за музеем репутации культурного центра, открытого современным веяниям. И не только для инициатив относительно даров новейшего искусства в нашу коллекцию или же выставочных предложений со стороны мировых имен, но и с точки зрения эстетически самоценного (как процесс) увлекательного эксперимента по наведению мостов между временами и культурами, между традицией и современностью. По сути, это связано с новейшей, еще вовсе «не отыгранной» постмодернистской проблематикой, где – в отличие от былого авангарда, когда-то утопично стремившегося порвать с прошлым, с традицией, – теперь постоянно осознается переживаемая не как помеха, а как стимул для артпрактики, обреченность на диалог с прошлым, на игру вечных возвращений, на непрерывное воспроизведение в смещенных цитатах всего того, что уже сказано в былой культуре. Короче – констатация невозможности абсолютной новизны. Образ «музея библиотеки», как сквозная метафора, пронизывает эстетическое сознание конца века, порождая синхронный, обратимый и одновременно разомкнутый, открытый тип культуры. Поскольку границы между новизной и цитатой, прошлым и настоящим, оригинальным и вторичным все время переопределяются и уточняются, сам феномен «музейности» становится предметом рефлексии, и не только посредством гуманитарного дискурса, но и средствами самого искусства, которое после опыта концептуализма охотно берет на себя роли философии и культурологии. Это проявилось даже в направленности интересов некоторых наших молодых художников, развивающих акции и перформансы на тему «искусства для искусства»: такова, например, прошедшая в прошлом году в ГМИИ акция «Шнур Мура» на выставке Генри Мура. Такого рода действа, будучи весьма сдержанными и экономными по средствам, к тому же совершенно безопасными для музейной экспозиции, видятся сейчас уместной и интересной формой интерпретации актуальных проблем самого феномена музея, чем, в частности, занята группа «Музей». Это своего рода интеллектуальная игровая параллель тем весьма серьезным проблемам, когда собеседование в стенах музея контрастного разнородного материала станет неотложной, насущной задачей, побуждая и нас в содействии с видными западными мастерами объекта и инсталляции, а также с дизайнером экспозиции не только заниматься научным и практическим обслуживанием данной выставки, но и относиться к этому процессу как к художественно-концептуальному опыту. Ведь размещенная в нашей среде экспозиция даже из изолированных объектов – допустим, это реди-мейд или неоконструктивизм, неопоп-арт, видеоскульптура или что-нибудь подобное – все равно будет восприниматься как некая инсталляция. Залы, их окружение и даже экспонаты в соседних помещениях будут опосредованно вовлечены в зримый или незримый диалог с деликатно вторгнувшимся инобытием – объектно-инсталляционной установкой, с ее пространствами и структурой, с ее фактурной и смысловой спецификой. Современный художественный опыт Запада – Италии, Германии, Франции – знает примеры замечательных ходов именно в этой сфере – в аспекте встраивания объекта авангарда и постмодернизма в музейные и иные сакрализованные культурные исторические среды и территории иных эпох. Кстати, радикальное итальянское «бедное искусство» (арте повера), вроде бы противостоящее постмодернистской «реакции» (возвращению к живописи в трансавангарде), – весь этот круг художников, поддерживаемый Г. Челанто, будь то Куннелис, Паулини, Пистолетто, Зорио и др., – все эти продолжатели авангарда не раз испробовали себя в диалоге с пространством классического прошлого, представая в этом качестве не разрушителями, а скорее в состоянии ностальгически испытующего соревнования-собеседования с тем средовым окружением, что порождено традицией и духом места. Думается, что, если бы Куннелис организовал свою выставку не в ЦДХ, а в нашем пространстве, он бы еще явственнее раскрыл сквозные антикизирующие мотивы своей индивидуальной «мифологии», те темы и подтексты, которые связывают его с генами истории и эпоса, с духом средиземноморской традиции. Недаром и свою, казалось бы, ригористично-авангардную, жесткую инсталляцию в ЦДХ, со шпалами и мешковиной, он как бы «утеплил» включением мебели-ретро начала века, найденной здесь же, в Москве, а также ритуализировал экспозиционный ряд, завершив его «процессией» гигантских амфор, что замкнуло экспозицию московской выставки демонстративным жестом возвращения к истокам – к европейской древности. Подобный жест, отчетливая археологичность и специфическая музейность которого воспринималась в нейтрально-безличной среде в залах ЦДХ в силу контраста – от противного, имея в виду контраст мертвого и живого: и амфоры-реликты, и объекты-ассамбляжи были так странно живы в мертвой архитектурной коробке на Крымском валу. Думается, что наша среда – уникальное пространство ГМИИ – вдохновила бы и его, и других художников современности, авангардистов и постмодернистов, работающих над новой интерпретацией мифов и архетипов традиционной культуры и ориентированных на диалог и даже спор с пластическими кодами прошлого, на оригинальные способы обживания окружающей визуальной среды. Ведь к тому же и сама среда ГМИИ, порожденная эклектикой конца XIX века, этим отдаленным дорефлексивным прообразом теперешних постмодернистских цитат, ретроспекций и т. п., – сама эта среда не является, естественно, чем-то цельным, классически монолитным. Это пространство, где в декоре синхронно уживаются мотивы и Греции, и Египта, где одна и та же территория поглощает скульптуру и готики, и Возрождения, – это уже само по себе словно дает повод для постмодернистской «медитации», воочию демонстрируя непротиворечивость анахронизма. Думается, что эти свойства нашей постоянной экспозиции не остались незамеченными, порождая игру отражений в новейшей визуальной арткультуре – например, в фотосериале Волкова, у упомянутой группы «Музей» и, быть может, в еще только намечающейся культурологической эссеистике.