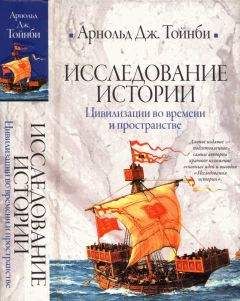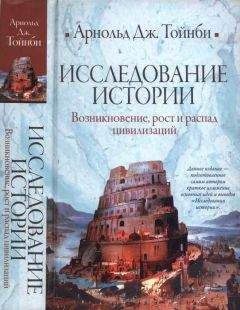Альбер Камю - Творчество и свобода: Статьи, эссе, записные книжки
Февраль.
Оран. Издалека, от Вальми, из поезда видна гора Санта-Крус, глубоко вросшая в землю, и сам собор, словно каменный перст, устремленный в синее небо.
В десять утра нужно непременно отправиться на бульвар Галлиени к чистильщику обуви. Свежий ветерок, яркое солнце, спешащие мужчины и женщины и необычайное довольство, которое ощущаешь, забравшись в высокое кресло и наблюдая за работой чистильщика. Дело сделано, все вычищено, отполировано, доведено до совершенства. В какой-то момент, видя, как чистильщик манипулирует мягкими щетками, и любуясь безукоризненным глянцем башмаков, думаешь, что изумительная операция закончена. Но тут неугомонная рука снова проходится по сверкающей поверхности, снимает с нее блеск, трет ее, яростно втирает ваксу внутрь, и из-под щетки начинает бить двойной и в самом деле безукоризненный блеск, исторгнутый из глубин кожи.
*
Дом колониста — воплощенная метафизика, мораль и эстетика. Торт, увенчанный египетским пскентом. Занятная мозаика, неведомо почему в византийском стиле, где очаровательные сестры милосердия в сандалиях несут корзины винограда, а длинная вереница рабов, одетых на античный манер, спешит к добродетельному колонисту в колониальном шлеме и в галстуке бабочкой.
*
Аустерлицкая улица и ее столетние евреи. Что ни разговор, то забавная сценка.
*
Такие костюмы, как от Мари-Кристин, «not only fashionable, but always up to date»{51}. Слабительные «только на крайний случай. Насилие над кишечником — это не дело».
*
С дороги, тянущейся высоко в горах, скалы кажутся натыканными так густо, что пейзаж кажется вычурным и почти нереальным. Человеку в нем совершенно нет места, ибо его тяжеловесная красота выглядит потусторонней.
*
Маленькая площадь Перл, где в два часа дня играют дети. Мечеть, минареты, скамейки, кусочек неба. Дребезжащий голос испанского радио. Я люблю эту площадь не в этот час, а в другой — я его хорошо себе представляю, — когда летнее небо уже не пышет жаром и на маленькой площади становится легче дышать; по ней прогуливаются женщины в обществе военных, мужчины, привлекаемые запахом анисовки, спешат в бары.
*
Женский роман. Единственная тема — искренность.
*
«Не пытай бессмертия, милая душа[267], — обопри на себя лишь посильное» (Пиндар — Третья Пифийская песнь. Перевод М. Л. Гаспарова.).
*
Персонажи[268].
Старик и его собака. Восемь лет ненависти. Другой человек и его привычка говорить: «Он был прелестен, более того, приятен».
«Оглушительный, более того, умопомрачительный шум». «Это черта вечная, более того, общечеловеческая». А.Т.Р.
*
Солнечное утро и голые тела. Душ, потом жара и свет.
*
Февраль.
Это флорентийское лицо, говорящее о том, что его любовь и его прошлое были несчастными. Какова здесь доля игры? Какова доля волнения, такого сильного, такого потрясающего в одни моменты и такого сдержанного в другие?
*
М. — подобная душе Парижа. Это солнечное утро и город, полный света, — ее глаза, подобные городу и этой легкой жизни. «О dolore dei tyoi martin, о diletto del tuo amore»{52}.
«Она являет собой не любовь, но надежду на удачу, — все, что не является изгнанием, все, что является приятием жизни, И никогда еще надежда не имела такого волнующего лица. Кто может быть уверен, что любит? Но волнение все узнают сразу. Эта песня, это лицо, этот гибкий грудной голос, эта наполненная и независимая жизнь — вот все, чего я жду, на что уповаю. И если я откажусь от своих чаяний, они все равно останутся как обещания освобождения и как тот образ меня самого, с которым я не могу расстаться».
*
Март.
Что означает это внезапное пробуждение — посреди этой темной комнаты, в шуме города, ставшего вдруг чужим? И все мне чужое, все, нет нигде близкого существа и негде залечить рану. Что я делаю здесь, к чему эти жесты, эти улыбки? Я не из этих краев — и не из других. И окружающий мир — всего лишь незнакомый пейзаж, где сердце мое уже не находит опоры. Посторонний, могущий понять, что значит это слово.
*
Чуждо, признать, что все мне чуждо.
Теперь, когда все стало ясно, ждать и ничего не жалеть. Во всяком случае, работать так, чтобы научиться до конца и молчать и творить. Все прочее, все прочее в любом случае неважно.
*
Вечер: События. Люди. Индивидуальные реакции.
*
Трувиль[269]. У моря — плато, поросшее асфоделями. Маленькие виллы с верандами за зелеными или белыми заборами — одни спрятаны в зарослях тамариска, другие стоят открыто среди камней. Море тихо рокочет внизу. Но солнце, легкий ветерок, белизна асфоделей, яркая синь неба — все дает представление о лете, о его золотой поре, о загорелых девочках и мальчиках, зарождающихся страстях, долгих часах под солнцем и неожиданной мягкости вечеров. Какой еще смысл искать в нашей жизни, если не этот, и какой урок, если не урок этого плато: рождение и смерть, а между ними красота и меланхолия.
*
P.C. Один из тех типов, которые, как говорится, стесняются пойти в туалет у всех на виду, но потом оказывается, что у них такая теория и, согласно этой теории, величие человека — в том, чтобы сознавать свою униженность. И тут уже выходит, что привередливы не они, а мы.
*
С. Хочет написать дневник романа, который не написал его автор.
*
Единственной реакцией на человеческое общество все чаще и чаще становится индивидуализм. Человек сам себе цель. Все, что пытаются сделать ради общего блага, оканчивается провалом. А тому, кто все-таки хочет сделать попытку, подобает делать ее с нарочитым презрением. Полностью устраниться и блюсти собственные интересы. (Идиот.)
*
Мужчина получает письмо от мужа своей любовницы, В этом письме муж вопиет о своей любви и говорит, что, прежде чем дать волю ярости, он хочет поговорить непосредственно со своим соперником. Ярости-то любовник и боится больше всего на свете. Поэтому великодушие мужа приводит его в восхищение. И чем сильнее он боится, тем громче говорит о своем восхищении. Он без устали твердит об этом и, значит, с виду преисполнен благородства. Он готов отказаться от всего, хотя бы из признательности мужу за его великодушие, он готов принести себя в жертву — безропотно, он не стоит своего соперника. Впрочем, во все это он верит лишь отчасти. Ведь немалую роль играет тут и страх получить по физиономии.
Собака на вилле. С. взял ее в дом, несмотря на протест матери. Собака крадет двух анчоусов. Видя, как мать гонится за убегающей в страхе собакой, С. кричит: «Стой, стой! Не сходи с ума».
Потом С.: Бедный пес, он уже верил в райскую жизнь. Мать: Я тоже верила в райскую жизнь, но сроду ее не видела. С: Да, но он-то успел побывать в раю.
*
Спуск к морю над Мерс-эль-Кебиром. Цепь холмов и скал, окружающих бухту. Закрытое сердце.
*
Марсель. Ярмарка: «Жизнь? Небытие? Иллюзии? И все-таки правда». Большой барабан. Бум, бум, входите в Небытие.
*
На заре нового времени: «Совершилось!» Ладно, тогда начинаем жить.
*
Париж, март 1940 г.
Что отвратительно в Париже: нежность, чувство, мерзкая сентиментальность, которая называет прекрасное хорошеньким, а хорошенькое прекрасным. Нежность и отчаяние этого хмурого неба, мокрых блестящих крыш, этого бесконечного дождя.
Что замечательно: страшное одиночество. Словно лекарство от жизни в обществе: большой город. Теперь это единственная настоящая пустыня. Тело здесь уже не в цене. Оно скрыто, запрятано под бесформенными шкурами. Только душа, душа со всеми ее порывами, хмелем, чересчур слезливыми переживаниями и прочим. Но еще и со своим единственным величием: молчаливым одиночеством. Когда смотришь на Париж с вершины Холма[270], он кажется ужасной, запотевшей под дождем серой, бесформенной опухолью, вспучившей землю, если же повернуться к церкви Святого Петра на Монмартре, чувствуешь единство страны, искусства и религии. Все прожилки этих камней дрожат, все распятые и подвергшиеся бичеванию тела ввергают душу в такое же беспамятство и скверну, как и сам город.