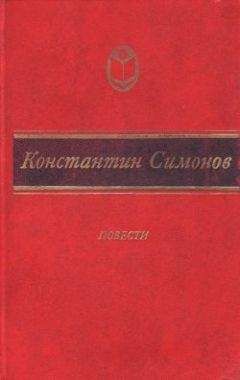Хэролд Блум - Страх влияния. Карта перечитывания
Во второй части мы находим кеносис Уоррена, метонимическое уничтожение его собственного видения. Изоляция, а не регрессия «—601 модус опустошения поэтического «я», который предпочитает Уоррен. Там, в первой части, он мог слышать, как стучит его сердце, здесь он слышит метонимические персонификации чувствительности, моментально расстроенные неожиданностью. Валун и ручей — это падшие сознания, и Уоррен близок к ним, ко сну и смерти с тех пор, как он услышал «звук бегущей воды в темноте». Движение от редуктивного слуха к гиперболическому зрению в трех завершающих часть строках — это ответ даймонизации Уоррена, его подъем к Американскому Контр- Возвышенному. В третьей части образы высокого и низкого смешаны с перспективизмом, поднимающимся до дантовского чувства ужаса, которое преображает прозрачность сосульки, ледяного кристалла, в нечто, больше похожее на магический кристалл:
Меж тем на восточном горбу горы
Потемки стынут, и там, где не было
Часами солнца, сосулька растет
Геометрической глыбой
Это аскесис Уоррена, сублимация через метафору личной смерти к безличной полноте смысла, к «геометрической глыбе» сосульки. Поскольку стихотворение постоянно рассуждает о скрытых контрастах оттепели и заката, геометрия сосульки — это согласование, которое требуется для такого рассуждения, точка перспективы, в которой сходятся природа, внешнее, и признаки бессмертия Уоррена, внутреннее. Метафора «неудачна» в том особом смысле, о котором я писал в главе 5, т. е. имеет место неудача перспективизма, пытавшегося превратить поэтический кризис в восстановление смысла.
Оригинальность и сила Уоррена заметны на протяжении всего стихотворения, но в особенности в части 4, в переиначивании, не сопоставимом ни с чем в американской поэзии со времен «Осенних зарниц». В пророческом представлении Уоррен видит время через полвека после своей смерти, воздавая все возможное необходимости и силе изменения. Это благословение сыну, с самого начала двойственное, интроецирует будущее и проецирует прошлое, уничтожая «красный закат» настоящего времени стихотворения. Благословляя «из будущего в другое» будущее, Уоррен проявляет amor fati, напоминающую Ницше или таких последователей Ницше, как Иейтс и Манн. В семьдесят четыре года, заканчивая «Избранника» (1951), Манн писал о своей работе (и Уоррен мог бы так же сказать о своем пророческом благословении):
«Amor fati — я, пожалуй, не стану особенно возражать, если окажусь одним из тех, кто пришел уже под вечер и уйдет одним из последних, замыкая прощальное шествие, и мне думается, что после меня вряд ли кто-нибудь станет еще раз пересказывать эту историю, так же как и легенды об Иосифе».
Вордсворт, благословляющий свою сестру в конце «Тинтернского аббатства», и Кольридж во многих подобных же ситуациях — это главные предки стихотворения Уоррена, которое, быть может, никто уже не будет переписывать еще раз. «Бессмертие / В любящем бдении смерти» доверяет свое значение преодолению «бдения», хотя и используя значение его корня — «бдительность». Уоррен, неуживчивый антиэмерсонианец, добивается свежести преобразования, сознательно запаздывая и все же возрождая эмерсонианский отказ опаздывать.
Обращаясь к Эммонсу и Эшбери, критик обнаруживает, что эмерсонианская традиция стала и прямо-таки бременем, и прямо-таки силой не то этих поэтов, не то этих толкователей. Говорить о стихотворении Эммонса или Эшбери языком Эмерсона, или Уитмена, или Стивенса — значит вводить то, что можно было бы, в противоположность органической аналогии Кольриджа, назвать человеческой аналогией. Стихотворение способно с радостью воспринимать свой одинокий внутренний пейзаж не более, чем мы сами. Мы вынуждены говорить, используя слова других людей; ибо не более стихотворения можем мы быть «о» самих себе. Говорить, что стихотворение о себе самом — значит убивать, но говорить, что оно о другом стихотворении — значит выходить во внешний мир, где мы живем. Изолируя себя, мы себя идеализируем, точно так же, как поэты обманывают себя, идеализируя то, что, по их утверждениям, становится истинными предметами их стихотворений. Действительные предметы близки страху влияния, а сегодня зачастую и становятся этим страхом. Но теперь начинает вырисовываться глубокая необходимость отступления, в ходе которого я попытаюсь соотнести периферии и отметины Эммонса и редкие богоявления Эшбери с великими обстоятельствами и более важными привилегированными моментами их предшественников-трансценденталистов.
Если прибегнуть к редукции, можно предположить, что страх влияния и есть страх смерти и видение поэта о бдении бессмертия предполагает свободу от влияния. Сексуальная ревность, как сообщает повседневный опыт, тесно связана со страхом и тоже сводится к страху смерти или полной тирании времени и пространства, темницы и опасной власти «не-я» (а «не-я», по словам Эмерсона, включает в себя и тело человека). Страх влияния, подобно ревности, отчасти вызван природным телом, и все же поэзия пишется естественным человеком, единым со своим телом. Блейк настаивал на том, что существует тоже и «Настоящий Человек Воображение». Быть может, и существует, но он не способен писать стихотворения, по крайней мере пока.
Стихотворение пытается освободить поэта-как-поэта от страхов, что ему не хватит все равно чего: пространства для воображения или времени для приоритета. Предмет, манера, голос — все вызывает вопрос: «Что, кроме смерти, принадлежит мне одному?» Современные стихотворцы, принадлежащие к разным школам Паунда — Уильямса, глумятся над понятием страха, влияния и полагают, опираясь, как им кажется, на собственный опыт, что стихотворение — это машина, сделанная из слов. Может быть и так, но в этом случае, в первую очередь, мы, как это ни прискорбно, оказываемся машинами, сделанными из слов. Люди делают стихотворения таким же образом, каким доктор Франкенштейн создал своего даймона, и стихотворениям тоже присущи человеческие слабости. У героев стихотворений нет отцов, но у самих стихотворений они есть.
Эммонс и Эшбери, как и Уоррен, знают все это, ибо сильные поэты обрели свою силу, встретившись лицом к лицу со страхом влияния, а не игнорируя его. Поэты, поднаторевшие в забывании своих предков, пишут очень легко забывающиеся стихотворения. Им хотелось бы вместе с Ницше верить, что «забвение — свойство всякого действия», притом что действием для них может быть только написание стихотворения. Но ни один поэт не может написать стихотворение, не вспоминая в некотором смысле другое стихотворение, как невозможно любить, не припоминая, хотя бы смутно, выдуманного или строго запрещенного прежнего любовника. Каждый поэт вынужден говорить, как Харт Крейн в одном раннем стихотворении: «Я могу вспомнить много забвения». Для продолжения своей поэтической жизни ему нужно, чтобы вокруг него сгущался туман иллюзий, укрывающий его от света, впервые озарившего его. Этот туман — нимб (как бы ложно его ни видели) того, что пророки назвали бы Кабодом, предполагаемого свечения собственной славы поэта.
Должно быть, эти истины общеизвестны, но поэты, предполагая, что защищают поэзию, идеализируют свои взаимоотношения, а магические Идеалисты из числа критиков следуют поэтам в их самообмане. Тут Нортроп Фрай идеализирует сильнее даже, чем Блейк:
«Раз художник мыслит в терминах влияния, а не ясности формы, усилие воображения становится усилием воли, и искусство извращается в тиранию, в применение к обществу принципа магии, или таинственного принуждения».
В опровержение этого суждения я бы привел замечание Кольриджа, что воля и есть сила произведения, она — доступное нам средство избежать принудительного повторения; и я бы добавил, что не нужно извращать искусство, поскольку поэтическое воображение пост-Просвещения уже довольно-таки сильно извращено вечной битвой с влиянием. Фрай формулирует идеал; Кольридж знает, что мы должны делать, как он выражается, «клинамен от идеала». Как я теперь сознаю, Кольридж в «Помощнике для размышления» ввел критическое понятие, названное им «lеnе clinamen, вежливый поклон», которое я по ошибке считал своим изобретением. Критики тоже одарены прискорбной забывчивостью.
Эммонс предложил рассматривать страх влияния как «часть большего предмета, иерархии», предмета, центром которого, как он считает, для поэтов и критиков становятся процессы формирования канона, в конце концов представляющего собой общественный отбор текстов для воспроизведения и изучения. Формирование канона не произвольный процесс, и он не может социально и политически регулироваться долее одного-двух поколений, даже в случае самой напряженной литературной политики. Поэты живут унаследованной ими силой; их сила проявляется в их влиянии на других сильных поэтов, и влияние, распространяющееся более чем на два поколения сильных поэтов, становится частью традиции, даже самой традицией. Стихотворения выживают, когда порождают живые стихотворения, пусть даже неприятием, негодованием, неверным истолкованием; стихотворения становятся бессмертными, когда их последователи, в свою очередь, рождают жизненно важные стихотворения. От сильных исходит сила, пусть и не сладостная, и когда сила достаточно долго навязывает себя, мы привыкаем звать ее традицией, нравится она нам или нет.