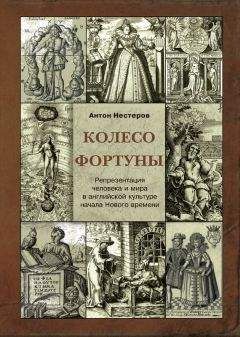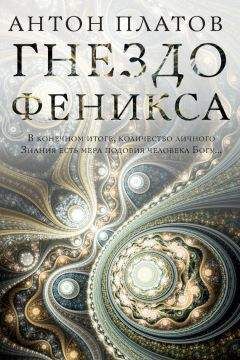Александр Луцкий - Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века
Немаловажно, что лишь умственно неполноценная соседская девочка угадывает под маской героя его личность. «Именно потому, что девочка умственно отсталая, – заключает герой, – она смогла увидеть меня насквозь».[498] Значит, маскарад – норма, а истинное лицо – болезнь, таково его открытие. Наделив знанием истины убогого ребёнка, Абэ тем самым подчёркивает приоритет интуитивного знания, выступая с позиции тотального, антирационалистического, типично экзистенциалистского негативизма. «Под давлением маски деформируется, распадается истинное лицо, поэтому среди извращений лжи, делающей маску изначальной основой, человек занимается не чем иным, как тем, что сам разрушает собственное бытие».[499] Маска – это новое я героя, благодаря которому он, «скрыв облик, разорвал связь между лицом и сердцем и освободился от духовных уз, соединяющих его с людьми».[500] Теперь все окружающие для него – враги, маски, стоящие на пути его волеизъявления и сами стремящиеся к удовлетворению собственных притязаний: «Мы живём в такое время, когда стало невозможно, как прежде, провести чёткую, кем угодно различимую границу, отделяющую ближнего от врага. В электричке теснее, чем любой ближний, тебя вплотную облепляют бесчисленные враги <…> Вражеское окружение стало обычным – мы привыкли к нему, и существование ближнего так же малоприметно, как иголка, обронённая в пустыне <…> Может быть, для успеха в жизни рациональнее отказаться от высоких устремлений и примириться с тем, что все окружающие тебя люди – враги».[501]
Акцент на антагонистичности отношений между людьми весьма характерен для экзистенциалистского сознания. Идейный предшественник экзистенциализма, Блез Паскаль (1623–1662), писал, что «человек – это сплошное притворство, ложь, лицемерие не только перед другими, но и перед собой. Он не желает слышать правду о себе, избегает говорить её другим <…> Люди ненавидят друг друга – такова их природа».[502] «Конфликт есть первоначальный смысл бытия для другого», – три века спустя вторит Паскалю его соотечественник Ж.-П. Сартр. У Ясперса отношения между людьми – коммуникация, свидетельствующая о тотальном одиночестве каждого индивида. Хайдеггеровское совместное бытие людей раскрывается в сфере равнодушия и чуждости.[503]
У Абэ не только люди враждебны друг к другу, но и толпа в целом враждебна каждому человеку в отдельности, как враждебна к нему в целом и окружающая его природа. Благодаря лицу-маске герой получает возможность избегать личной ответственности за неблаговидные поступки, совершаемые им под воздействием враждебности этого мира. Но раз снимается личная ответственность, все социальные запреты оказываются вполне преодолимыми, всё позволено: «Если освободить себя от всех духовных уз и обрести безграничную свободу, то легко стать безгранично жестоким»[504] – перекликается Абэ с Достоевским. «Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же мы видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство», – сетует старец Зосима в «Братьях Карамазовых».[505] Так можно прийти к тому, что «нельзя будет верить другим, не будет оснований и не доверять другим, придётся жить в состоянии невесомости <….> семья, народ права, обязанности – превратятся в мёртвые слова»,[506] – размышляет герой «Чужого лица». Тогда правомерным будет бороться с другими любыми средствами и даже спокойно идти на их убийство, уничтожать этих других.
В результате герой приходит к апологии преступления, не сознавая даже, что тем самым разрушает собственное бытие. В финале романа мы застаём его в пограничной ситуации (столь любимой экзистенциалистами) – на пороге убийства, должного скрепить кровью идентичность его я и маски – второго я. Убийство – символ окончательного признания торжества маски, символ полного превращения героя в бездушного эгоцентрика. Японский писатель заканчивает роман прежде, чем герой совершает преступление, оставляя ему возможность отступить. Но отступить можно только в тягостную неопределённость утраченной цельности.
В данном случае Абэ следует японской литературной традиции, практиковавшей незавершённость как лучшее завершение, а эскизность, фрагментарность – как наиполнейшее выражение целостности и вечной континуальности Бытия.[507] Однако этот художественный приём роднит роман Абэ и с сочинениями западных писателей-экзистенциалистов, для которых характерно подчёркивание незавершённости человеческого бытия, его постоянного становления и изменения, что делает жизнь вечным приключением.
В этом отношении произведения Абэ Кобо созвучны сочинениям Достоевского, у которого, по словам М. М. Бахтина, «неопределённость, нерешённость <…> являются главным предметом изображения. Ведь он всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса незавершённого и непредопределимого поворота его души».[508] Примечательно, что «Чужому лицу» присуща и характерная для произведений Достоевского полифоничность. Несмотря на внешнюю монологическую форму романа, написанного как дневник-исповедь, при его чтении возникает ощущение пульсации многих самосознаний. Подобно персонажам Достоевского, герой Абэ всё время пытается воссоздать в себе самосознание окружающих, проиграть их мысли и чувства, определить их позицию по отношению к нему и миру.
Следует отдать должное высокому мастерству Абэ-психолога, вслед за Достоевским видевшего «разгадку структуры личности в том пространстве, в котором сначала возникает человеческое отношение к другому индивиду, чтобы затем – вследствие взаимного характера этого общения – превратиться в то самое отношение к самому себе, опосредствованное через отношение к другому, которое и составляет суть личностной – специфически человеческой природы индивида».[509]
Как и герои Достоевского, герой романа Абэ представляет нам «особую точку зрения на мир и на себя самого».[510] Абэ лишает своего героя физического лица как раз для того, чтобы актуализировать и предельно обострить проблему отношения человека к миру и себе, к собственному я. Можно сказать, что феномен самосознания, отмеченный Бахтиным как художественная доминанта построения образа героя у Достоевского, у Абэ в «Чужом лице» также играет роль художественной доминанты. Герой, ни на миг не совпадающий с самим собой, весь есть «бесконечная функция», весь – «самосознание». Это самосознание, так же как и самосознание героев Достоевского, «вбирает в себя, – по Бахтину, – весь предметный мир».[511] (Отметим, что для писателя-философа Абэ Кобо, по оценке В. С. Гривнина, «первостепенна философия, а не фабула, и этой философии подчинена форма».[512])
Обращаясь к сравнению романа Абэ с повесть Камю «Посторонний», заметим, что в отличие от Абэ, показывающего, как индивид приобретает черты атомизированного эгоцентриста в буржуазном обществе, Камю изображает уже сформировавшегося равнодушного эгоиста.[513] Если Абэ анализировал драматический процесс становления индивидуалистического несчастного сознания, то у Камю мы видим последний рубеж, тупик – фактический распад личности; результат, к которому приводит развитие экзистенциального индивида. В герое Камю процесс присутствует «в снятом виде», поскольку этот герой – наследник вековой индивидуалистической традиции Запада. Ему не требуется маска, чужое лицо, – он уже давно сросся с этой маской, сам превратился в маску. Его я – это и есть эгоистическое я западного индивидуалиста, для которого не существует таких вопросов, как «что есть моё лицо?» или «что есть моя индивидуальность?».
Такие вопросы возникают только тогда, когда человек ощущает себя глубоко причастным природному и социальному миру, как, например, в Японии. В западном же экзистенциализме онтологизация субъективных переживаний отдельной личности привела к утверждению индивидуалистической самости как данности, аксиомы. Согласно этой аксиоме, я не только не нуждается в доказательствах собственного существования, но и является точкой отсчёта и единственным критерием истинности всех своих проявлений в мире.
Согласно этой теории, экзистенциальному индивидууму не нужны сочувствие и поддержка окружающих. Люди глубоко чужды ему и заслуживают лишь равнодушия либо презрения. Однако, как показывает Камю в «Постороннем», окружающие нужны для утверждения свободы воли индивида, они – необходимый фон для развития и полноценного действия его я.[514] Таким образом, даже экзистенциалистский субъект нуждается в определённых связях с людьми, и нарушение этих связей вызывает у него какой-никакой, но тем не менее душевный дискомфорт.