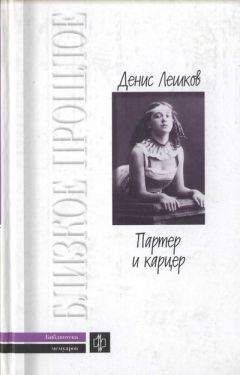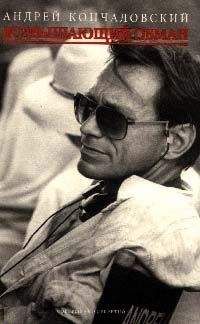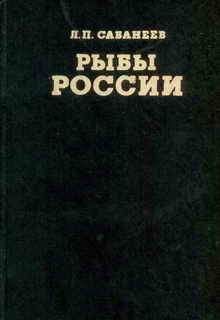Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских
Вместе с зарей проснулись и наши гребцы. Лениво расстались они со своим сном, умыли холодной водой свои лица, положили на восток несколько земных поклонов с теплой молитвой на устах…
– Эй, ребята! верховая: молись Богу, поднимай паруса! – слышится голос лоцмана. И десять ловких рук берутся за веревки, прикрепленные к тяжкому парусу, и парус, скрипя, равномерно поднимается под песню бурлаков…
Но вот на крутом повороте ветер перестал быть попутным, и наши гребцы, опустивши парус, принимаются за длинные весла, которыми действуют, стоя на палубе…
Давно уже слушаете вы песню ваших гребцов, но она бесконечна. К первой приплетается вторая, за ней следует третья, и вы задумались под эти грустные мотивы… Но вдруг две холодные капли воды… пробуждают вас из задумчивости; машинально поднимаете вы голову, смотрите верх, и новая капля падает уже вам на лицо… Капли дождя падают все чаще и чаще, а ветер крепнет все более и более… Дурно засмоленная крыша вашей лодки не могла больше противиться сильному дождю, и сквозь щели ее во многих местах образовались очень тонкие ручейки воды, которые сначала падали как бы нерешительно, капля по капле, и вот наконец заструились с полной решительностью. Один из таких ручейков пришелся прямо над вашим лицом и самым невежливым образом пролился за галстук…
Наша лодка останавливается у небольшого перелеска, который сбегает по горе прямо к берегу. За этим леском виднеется небольшая деревенька…
…Валы поднимаются все выше и выше стеною, ветер может сорвать лодку с якоря, так не лучше ли вам попросить на бурную ночь убежища в ближайшей деревушке… Там примут вас радушно, уступят самый теплый угол, накормят чем Бог послал, и если возьмут за гостеприимство какойнибудь гривенник, то разве только в знак благодарности, а не как плату. Но только помните, что если вы, согретые теплой избой крестьянина, крепко уснете и не явитесь вовремя, а между тем буря утихнет… то вас не станут дожидаться и не дадут вам знать, но уйдут, не спросивши даже о вас. Если же вы случайно позабудете какую-нибудь вещь, и лоцман лодки знает, кто вы, или, по крайней мере, где можно вас найти, то не бойтесь: при первом удобном случае эта вещь будет вам доставлена. Не считайте также большой потерей и того, что ваша лодка уедет без вас: через полчаса появится другая, и если услышит ваш крик с берега и поймет вас, и притом если бег ее не очень скор, с удовольствием пришлет за вами свой маленький челночек или завозенку и примет вас на свою палубу» (107; 3 – 31).
Тверь. Речная пристань
Грузовые барки вниз по течению шли самосплавом, а вверх – с помощью бурлаков или коноводками, при попутном ветре и на рогожных парусах. Бурлак был видной фигурой, придававшей особый колорит приречным торговым городам во время навигации. Какой-нибудь Нижний Новгород практически до конца XIX в. представлял собой тихий провинциальный город. Но 7 месяцев навигации он жил чрезвычайно интенсивной жизнью: его население увеличивалось в несколько раз за счет бурлаков и грузчиков – крючников, каталей и носалей; в начале книги приводились данные о соотношении коренного и пришлого населения такого важного транзитного пункта, как Рыбинск. В Нижнем с середины марта на Ивановской площади в нижней части города собирались тысячи крестьян и бродяг с фальшивыми паспортами или беспаспортных. Это была бурлацкая биржа. Обычные бурлацкие артели составляли 25–30 человек, в расчете на судно среднего размера. На малые суда нанимали 5–8 человек, но для белян, достигавших длины свыше 50 м, ширины более 15 м, с осадкой до 3,5 м и грузоподъемностью свыше 1,5 тыс. т, нужно было более сотни рабочих: в среднем для каждой тысячи пудов (1,64 т) полагалось иметь «восемь ног». Нижегородцы обычно рядились на «малую путину» до Рыбинска, и за расстояние в 454 версты наниматель платил от 12 до 45 руб., а в среднем 23–25 руб. Шли от утренней до вечерней зари, то есть в среднем 18 часов, с перерывами для скудных трапез. Путь до Рыбинска занимал до 20 дней. Отгуляв в конечном пункте, ватага спускалась вниз на лодке и нанималась на новую «путину» или «ходку». Обычный крестьянин-землепашец ходил не более двух путин, возвращаясь к Петрову дню в деревню на сенокос и жатву.
Были маршруты и подлиннее. Каспийская рыба приходила из Астрахани в Нижний через 60–65 дней, самаро-саратовский хлеб шел сюда 40–45 дней, камская соль – месяц. Так что приволжский хлеб приходил к Петербургскому порту для вывоза за границу в две навигации, зимуя в Рыбинске.
Нанявшиеся бурлаки покупали деревянные семеновские ложки и затыкали их за ленту гречневика, крестьянской поярковой шляпы: это значило, что бурлак уже нанялся. Затем артель отправлялась в кабак «мочить лямку». С вершины невысокой мачты на берег подавалась «бичева», канат, придерживаемый особой снастью – бурундуком. К ней с помощью деревянной «шишки» крепилась широкая прочная кожаная лямка, в которую и влегал грудью бурлак. Шаг был медленный и своеобразный: вперед ступали только правой ногой, подтягивая затем левую, поскольку тяжелый груз на быстрой реке не позволял идти нормально. Шли, сильно наклонившись всем телом и низко наклонив голову, иной раз по прибрежным отмелям в воде; на шее каждого висел кисет с табаком, и когда вода подступала под грудь, на барку кричали: «Под табак!», чтобы там слегка подвернули судно, и можно было выйти на берег; этот клич бурлаков укоренился на Волге для обозначения глубины.
Шли бурлацкие ватаги по «бичевнику» – двухсаженной полосе вдоль уреза воды. Содержание бичевников – выравнивание, засыпка водороин, уборка кустов деревьев, постройка мостов через притоки, было натуральной повинностью приречных селений, а землевладельцы получали хорошую прибыль от бичевников. На крутоярах бурлаков перевозили на другой берег на подчалках, бывших при барках. Несколько судорабочих оставалось и на барке для управления ее огромными потесями – установленными на носу и корме веслами из целых бревен с вдолбленными в вальки дубовыми «пальцами». Все ватагу возглавлял доверенный от хозяина водолив, следивший за сохранностью груза и устранявший течи. Хозяйством артели заведовал «дядя», или лоцман, пищу готовил мальчишка лет 14–15, которому рано было еще становиться в лямку; двое слабосильных, «косные», шли сзади ватаги и «ссаривали» бечеву, освобождали ее, если она задевала за что-либо и запутывалась.
Был и другой способ движения против течения. На большой лодке, завозне, со стоявшей на якоре барки сажен на 100 вперед завозили большой второй якорь и сбрасывали его в воду. А затем артель, медленно переступая по палубе от носа до кормы, подтягивала к нему барку якорным канатом.
Нужно ли после этого удивляться, что бурлаки в начале «путины» и по ее окончании оказывались в городах самым буйным элементом, выпивая в кабаках весь запас водки, а иной раз разбивая и сами кабаки…
Так тянулись долгие десятилетия. И вдруг, когда по Волге уже «побежали» пароходы, кому-то в голову пришла мысль: использовать лошадей. На палубе устанавливали большой шпиль, к длинным рычагам-вымбовкам припрягали несколько лошадей и они, ходя по кругу, вращали шпиль и подтягивали коноводку к якорю. Но поздновато были изобретены коноводки: они вскоре были вытеснены пароходами.
Не слишком комфортабельной была поездка по реке на барке или косной лодке. Совсем иным было путешествие на пароходе.
Романов-Борисоглебск. Пристань на Волге
В 1820 г. первую партию астраханской рыбы доставила в Нижний «расшива с печкой»: пароход, построенный уральским заводчиком Всеволожским на Камском заводе. Вскоре пошли еще 4 подобных парохода, спущенных на Мологе купцом Евреиновым в компании с Бердом, а по Оке «бегал» пароходик, выстроенный на Выксунском заводе предпринимателем Сомовым. Но суда эти были столь несовершенны, что к 1829 г. все 8 волжских пароходов стояли в затоне, предназначенные на слом. Первый настоящий сильный речной пароход был построен на Днепре в 1823 г., но через два года он был переведен через пороги в Херсон. В 1835 г. на Днепре была создана первая пароходная компания. На Волге же пароходство, по существу, родилось в 1843 г. с возникновением «Общества пароходства по Волге». Затем на этой важнейшей водной артерии России одна за другой возникли знаменитые компании «Кавказ и Меркурий», «Самолет», «Лебедь», Зевеке и др. Они ходили и по Каспийскому морю. В 1858 г. на Волге и Каспии было уже 70 пароходов, а в конце XIX в. в бассейне действовало до 240 пристаней. По линии Нижний Новгород – Астрахань ходили огромные трехпалубные пароходы сормовской посройки, так называемого американского типа, с колесом в корме; вверх по течению они шли со скоростью 12–18 верст в час, а вниз – 15–22 версты. Пароходы общества «Кавказ и Меркурий» были сплошь выкрашены в белый цвет, черными бортами отличались от них суда «Общества по Волге», «Самолетские» имели красную, а «Общества Зевеке» – светло-брусничную окраску, так что волгари издалека различали, чей пароход «бежит». Самые быстрые и роскошные пароходы были у «Кавказа и Меркурия», а низкими ценами отличались пароходы Зевеке.