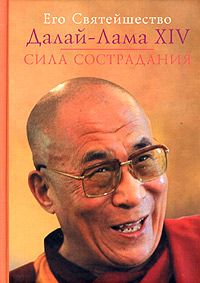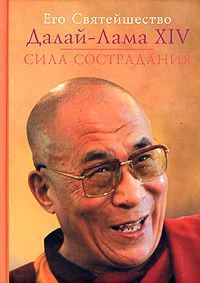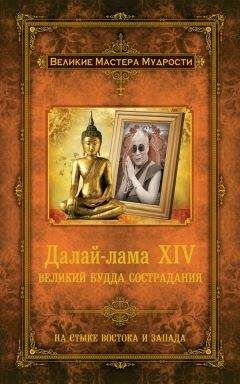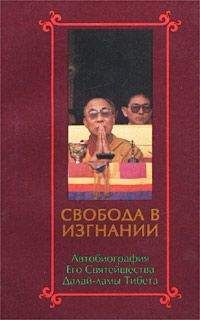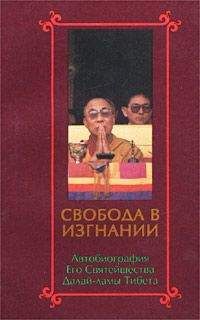Нина Никитина - Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне
плохо себя чувствовал, то всегда что-нибудь выдумывал. Так, например, летом никогда не писал, а дети шесть недель не занимались. После охоты с борзыми начинал осенью опять работать. Теперь хочет каждый день работать, а уже стар и слаб».
По словам самого писателя, во время болезни он часто думал о курении. Когда ему нездоровилось, то по утрам, встречаясь с кем-либо из домашних, он спрашивал: «Как поживаете?» — для того, чтобы его не расспрашивали о здоровье. Когда хворал и у него появлялись жар, слабость, хрипота, он всегда советовался со своим врачом-другом Д. П. Маковицким, как обыкновенный мнительный человек.
Толстой утверждал, что ему хорошо думалось, когда он болел. В это время, как он выражался, у него отпадало всяческое суеверие касательно материальной жизни, а появлялось сознание реальной духовной жизни, чтобы здесь и сейчас исполнять волю Бога, а учение материалистов утверждает все противоположное: суеверия они считают духовной жизнью. Писателю было ясно, почему так легко умирали самые эгоистические люди: потому что суеверие материальной жизни у них отпадало вовсе.
Свой обобщенный взгляд на медицину Толстой выразил в повести «Поликушка», опубликованной в кат- ковском «Русском вестнике» в феврале 1863 года. Здесь был брошен вызов всему сословию врачей. Ведь постоянно общаясь с ними, он прекрасно понимал, что они мало что смыслили в причинах болезни. Их абсолютно не занимало здоровье пациента. Толстому казалось, что для них здоровье было чем-то вроде шутливого персонажа.
«Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие, за
сученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: "куда кривая не вынесет", и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом, — мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы это сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесая склянка с сулемой, и слова: чиль- чак, почечуй, спущать кровь, матерю и т. п. разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. п.? Дерзай заблуждаться и мечтать! — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам».
У Толстого часто случались приступы страха смерти. Его ребяческое «умствование», уничтожавшее в нем «свежесть чувства и ясность рассудка», непрерывно сопровождалось болезненным ужасом смерти, и тогда он начинал каяться, молиться или стегать себя по голой спине веревкой. Впоследствии все это переросло в тяжелую форму патологического страха смерти. «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что- то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть вне семьи». Этот «арзамасский ужас», пережитый в 1869 году, он описал в «Записках сумасшедшего».
В это время он боялся ходить на охоту и в кармане всегда носил веревку. Мысль о суициде становилась для
Толстого навязчивой идеей. В пору работы над «Анной Карениной» он переосмысливал важные жизненные константы. «Арзамасская тоска» воспринималась им как некая «вершина жизни», с которой «видны оба ее ската». В это время Толстой нередко вспоминал древнюю восточную притчу о путнике. Суть этой притчи заключалась в следующем: спасаясь от дикого зверя в высохшем колодце, путник обнаружил там дракона. Он повис между зверем и драконом, ухватившись за ветки растущего в расщелине колодца куста, ствол которого грызли две мыши — белая, являвшаяся символом дня, и черная, олицетворявшая ночь. Путник осознавал, что обречен на верную гибель, но до тех пор, пока он был жив, любовался каплями меда на листьях куста и слизывал их. «Так и я, — говорил Толстой, — держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мученье. Я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь — день и ночь — подтачивают ветку, за которую я держусь».
Даже в самарских степях, где всегда «пахло Геродотом», в шесть часов вечера у него каждый день начиналась тоска, подобная лихорадке, тоска физическая, ощущение которой Толстой не мог сравнить ни с чем иным, как только с ощущением, будто душа расстается с телом. «Состояние свое я не понимаю… Главное, слабость, тоска, хочется играть в милашку и плакать… Живем в кибитке, пьем кумыс… неудобства жизни привели бы в ужас твое Кремлевское сердце: ни кроватей, ни посуды, ни белого хлеба, ни ложек… Но неудобства эти нисколько не неприятны, и было бы очень весело, если бы я был здоров… Если не пройдет тоска и лихорадка, то поеду домой… Нет умственных, и главное, поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый… Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое — хочется плакать. Может быть, переламывается болезнь», — писал Толстой Софье Андреевне из самарских степей, все еще надеясь «войти» в «кумысное состояние».
Со временем боли в желудке и печени у него уменьшились. Но сплин, а точнее, русская хандра не покида
ла писателя. Ведь здоровье зависело от возрождения веры в личное бессмертие во всей ее полноте и чистоте.
Продолжим наше путешествие в подсознание Толстого, охваченное «арзамасской тоской». Сергей Львович, сын писателя, так вспоминал об этом: «В одиночестве, в грязном номере гостиницы, он в первый раз испытал приступ неотразимой, беспричинной тоски, страха смерти; такие минуты затем повторялись, он их называл "арзамасской тоской"». А жена Льва Николаевича как-то заметила: «Сколько напрасных тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей пережил Лев Николаевич во всей своей долголетней жизни. Трудно перенестись в это чувство вечного страха смерти». Очевидно одно: Толстым владел патологический страх смерти. «Черная и белая мыши» не позволяли ему с прежней легкостью наслаждаться «медом» жизни. Специалисты в области человеческой психики квалифицировали приступы писателя как склонность к аффективной эпилепсии.
Заметим, что Лев Николаевич был человеком не робкого десятка, храбро сражался в Севастопольской кампании, не боясь опасностей. Поэтому его навязчивые фобии, приводящие к мысли о самоубийстве, расценивались некоторыми специалистами как судорожные припадки.
«…Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугой), потом поехали на почтовых, перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было 200 с чем-то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы все ехали. Стали дремать: я задремал, но вдруг проснулся: мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный — кажется, никогда не заснешь. "Зачем я еду" пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы нравилась мысль купить дешево именье, но вдруг представилось, что мне не нужно ни зачем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко…
Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я по
мню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли, Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон, и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге». Далее Толстым описывается бег героя от чего-то страшного, от которого он не может убежать. Несчастный, спасаясь от страха, выходит в коридор, и «оно» выходит за ним следом. Герой понимает, что это смерть «ступала» за ним, а он пытался ее «стряхнуть» с себя. Он начинает судорожно размышлять, каким образом перебороть наступившую вдруг тоску. Он понимает, что что-то беспрестанно «раздирает» его душу на части и не может «разодрать до конца». Герой «Записок сумасшедшего» пытается найти успокоение во сне, но ужас в виде «красного, белого, квадратного» не дает ему этого. Уж лучше бы бояться привидений, чем того, чего боялся он, — размышляет толстовский персонаж. Но дальше — хуже: он проводит еще более ужасную ночь, чем «арзамасская», ощущая, что душа разрывается с телом.