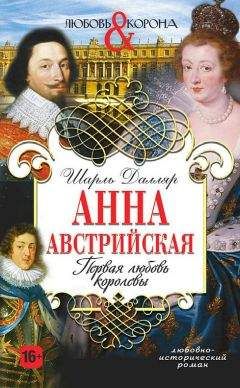Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Итак, живопись действует в пространстве, поэзия – во времени. Живопись отражает какой-то один момент бытия, поэзия – его временную последовательность. Живописец, ограниченный одним моментом времени, выбирает особенно плодотворную точку зрения на этот момент. «Но плодотворно только то, что оставляет свободное поле воображению. Чем более мы глядим, тем более мысль наша добавляет к видимому, и чем сильнее работает мысль, тем больше возбуждается наше воображение. Но изображение какой-либо страсти в момент наивысшего напряжения всего менее обладает этим свойством. За таким изображением не остается уже больше ничего: показать глазу эту предельную точку аффекта – значит связать крылья фантазии и принудить ее (так как она не может выйти за пределы данного чувственного впечатления) довольствоваться слабейшими образами, над которыми господствует, стесняя свободу воображения своей полнотой, данное изображение момента»[170]. Именно поэтому, подчеркивает Лессинг, «когда Лаокоон только стонет, воображению легко представить его кричащим; если бы он кричал, фантазия не могла бы подняться ни на одну ступень выше, ни спуститься одним шагом ниже показанного образа, и Лаокоон предстал бы перед зрителем жалким, а следовательно, неинтересным. Зрителю оставались бы две крайности: вообразить Лаокоона или при его первом стоне, или уже мертвым»[171].
Говоря о свободном воображении, о недосказанности образов, Лессинг отмечает одну из важнейших особенностей искусства вообще. Он подчеркивает действенный характер поэзии, ее способность более глубоко и всесторонне охватить жизнь, выразить внутренний мир человека, ибо «ничто… не принуждает поэта ограничивать изображаемое на картине одним лишь моментом. Он берет, если хочет, каждое действие в самом его начале и доводит его, всячески видоизменяя, до конца»[172]. Кроме того, живописец или скульптор не может выразить красоту иначе, чем через совершенство телесной формы. Поэт также может дать описание телесной красоты, но в целом он действует иначе. «Так как поэту открыта для подражания вся безграничная область совершенства, то внешняя, наружная оболочка, при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой, может быть для него лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к его образам. Часто поэт совсем не дает изображения внешнего облика героя, будучи уверен, что, когда его герой успевает привлечь наше расположение, благородные черты его характера настолько занимают нас, что мы даже и не думаем о его внешнем виде…»[173] Лессинг утверждает, что поэт шире может оперировать безобразным, и оно не повредит красоте образа в целом. «Когда Лаокоон у Вергилия кричит, то кому придет в голову, что для крика нужно широко раскрывать рот и что это некрасиво? Достаточно, что выражение “к светилам возносит ужасные крики” создает должное впечатление для слуха, и нам безразлично, чем оно может быть для зрения»[174].
Лессинг подчеркивает, что задача поэзии – изобразить героя в движении и развитии и вызвать горячее сочувствие к нему читателя. Именно поэтому Лаокоон кричит в изображении Вергилия, а Филоктет – в изображении Софокла. «Вергилиев Лаокоон кричит, но этот кричащий Лаокоон – тот самый, которого мы уже знаем и любим как предусмотрительного патриота и как нежного отца. Крик Лаокоона мы объясняем не характером его, а невыносимыми страданиями. Только это и слышим мы в его крике, и только этим криком мог поэт наглядно изобразить нам его страдания. Кто же станет осуждать за то поэта? Кто не признает скорее, что если художник сделал хорошо, не позволив своему Лаокоону кричать, то так же хорошо поступил и поэт, заставив его кричать?»[175]
По мысли Лессинга, пластическое искусство не может выражать ничего, что можно назвать переходным. Художник всегда избирает момент завершения, предельно типический (при этом оставляя свободное поле воображению). Вот почему пластическая красота, которая есть «совершенство наружной оболочки», всегда несет в себе величайшее обобщение, пластический образ всегда «сверхличен». Образ же, созданный поэтом, всегда текуч и многосложен. Поэзия может обобщать, используя индивидуальное, единичное, даже случайное. Человек предстает в поэзии не как собирательное существо, но как живая личность, в которой свойственное человеку вообще проявляется своеобразно.
Уже Гердер отметил, что в споре Лессинга с Винкельманом не было победителя, ибо одна позиция не исключает другую. В «Критических лесах» (1769) он разовьет мысли как Винкельмана, так и Лессинга и покажет, что Лессинг не заметил еще одного существеннейшего отличия между живописью и поэзией, вообще препятствующего их прямому сопоставлению. Однако спор Лессинга с Винкельманом имел и более широкий смысл, нежели понимание природы античного искусства или специфической природы живописи и поэзии. Известный советский (российский) литературовед В.Р. Гриб в свое время отметил, что этот спор «был в основе своей спором о задачах национального развития Германии, о том, по какому пути должно двигаться политическое и социальное освобождение Германии. Освобождать немцам лишь дух свой, или также и грешное тело? Быть ли Германии “страной поэтов и мыслителей”, или, кроме того, и страной реальных гражданских свобод? Республиканский дух классицизма Винкельмана, его учение о чувственном характере красоты были близки Лессингу Но созерцательный характер винкельмановского понимания свободы не удовлетворял его. Источник всякого рабства в самом человеке, учит Винкельман, это грубая, животная чувственность; лишь бескорыстное отношение к миру, чистая радость при виде его зримого совершенства дают внутреннюю свободу. Против стоического равнодушия “мудреца” к бедам и несчастьям “мира страстей и суеты” Лессинг защищает страсти, живую плоть, ибо страдания и боль заставляют человека восстать против своих мучителей, ответить ударом на удар. Винкельман считает крики Филоктета недостойными истинного героя, который должен презирать свои страдания. Нет, возражает Лессинг, оттого, что Филоктет мучается, он и не простит своим врагам. Боль взывает к мести»[176].
Несмотря на некоторую излишнюю политизированность этого заявления (точнее, политизированное истолкование позиции Лессинга), в нем есть глубокий смысл: Лессинг действительно выступил с программой формирования национального искусства высокого общечеловеческого звучания, дающего подлинно возвышенный и благородный идеал человека, но и не уходящего только в сферу чистой красоты, искусства действенного, обращенного лицом к немецкой действительности, указывающего на ее достоинства и ее непотребства, соединяющего античную гармонию и живые страсти и чувства современного человека.
Кристоф Мартин Виланд
Одним из тех, кто плодотворно соединил и по-своему переосмыслил в своем творчестве идеи Винкельмана и Лессинга, был выдающийся немецкий просветитель Кристоф Мартин Виланд (Christof Martin Wieland, 1733–1813)[177]. Его романы стали самыми яркими событиями в развитии немецкой прозы Зрелого и Позднего Просвещения. По словам Б.И. Пуришева, «среди древних эллинов, окруженных совершенными созданиями искусства и культуры, искал он своих героев и единомышленников»[178]. Однако при этом обращение к античности служит у Виланда цели не только обретения полнокровного гармоничного идеала человека, но и острейшей критики современной немецкой действительности и общечеловеческих благоглупостей, филистерства как немецкого, так и присущего человеку вообще. Сквозящая в глубине рационалистическая классицистическая основа соединяется в его романах с игривостью и раскрепощенностью, снисходительной гуманностью, присущей рококо, а также с сентименталистской чувствительностью (при этом рокайльная составляющая доминирует, как и в его поэзии). Показательно, что кумирами Виланда были такие различные по манере писатели, как Лукиан, Рабле, Шекспир, Свифт, Дж. Томсон. Большое влияние на него оказал английский мыслитель Шефтсбери с его учением о калокагатии – единстве добра и красоты, этического и эстетического начал. Подобно Шефтсбери, Виланд ратовал за гармоничное сочетание разума и страсти, притязаний нравственности и требований плоти.
Однако самым любимым писателем Виланда был Л. Стерн. Виланда поразила в нем смелость мысли и чувства, взламывание канонов рационалистического просветительского романа и моралистической литературы. В палитре Стерна органично соединились черты сентиментализма и рококо. Виланда необычайно привлекал особый стернианский юмор, внешне легкомысленный, иногда довольно фривольный, но внутренне весьма ядовитый, иронический, даже саркастический, привлекало соединение в жизненной позиции и манере Стерна снисходительной благодушности по отношению к человеку и острого критицизма, глубокого вживания в противоречивую душу человека и легкого и изящного искусства намека. Р.Ю. Данилевский отмечает: «Произведения Стерна подсказали Виланду не только стилистические приемы, но и жизненную позицию: внешнее благодушие, но в сущности крайне критическое и насмешливое отношение к окружающему. При этом немецкий писатель не просто подражал Стерну. Насмешка зрелого Виланда была еще беспощаднее, – возможно, потому, что общественный строй на его родине превосходил в своей косности пороки английской действительности»[179]. Сам же Виланд писал в 1767 г.: «Голова моя работает совсем в тристрамшендиевском направлении»[180]. После смерти Стерна Виланд в одном из писем с особой силой выразил значение для него английского писателя: «Среди рожденных женщиной не было автора, чувства которого, юмор и образ мысли полнее совпадали бы с моими; который так наставлял бы меня; который так прекрасно выражал бы то, что чувствовал я тысячу раз, не умея или не желая выразить этого»[181].