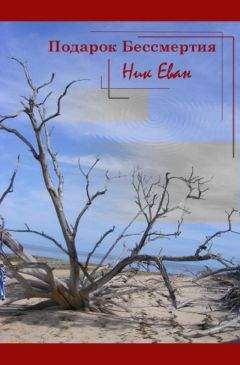Илья Франк - Прыжок через быка
Секрет улыбки Джоконды, кажется, недавно раскрыли. Судя по некоторым элементам одежды, Мона Лиза беременна, хотя и совсем чуть-чуть. Так что Изида улыбается новой жизни, в ней зреющей, чтобы потом раскрыться, подобно розе. Но даже если улыбка эта влечет и манит, уважаемый философ, что ж тут такого бесовского? C’est la vie!
Леонардо да Винчи. Мона Лиза (портрет госпожи Лизы Джокондо). 1503–1519 годы
Конечно, путь к Изиде смертельно опасен. Но с этой опасностью приходится мириться как художнику на его творческом пути, так и вообще всякому человеку на пути духовном. В ослиной шкуре тоже опасно оставаться, не говоря уж о том, что довольно противно.
В романе Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит» (в главе «На мачте») автор (или его герой), говоря о тех юношах, что дежурят на мачте, высматривая китов, рассуждает о притягивающей и губительной силе моря:
«Часто бывает, что капитаны принимаются отчитывать этих рассеянных юных философов, укоряя их в том, что они недостаточно “болеют” за успех плавания; что им совершенно чуждо благородное честолюбие, так что в глубине души они даже скорее предпочтут не увидеть кита, чем увидеть. Но все напрасно: у молодых платоников, кажется, неважно со зрением, они близоруки, какой же им смысл напрягать зрительный нерв? А свои театральные бинокли они оставили дома.
– Эй ты, мартышка, – сказал однажды гарпунщик одному такому юноше. – Мы уж скоро три года как промышляем, а ты еще ни одного кита не поднял. Когда ты стоишь наверху, киты попадаются реже, чем зубы у курицы.
Может быть, они в самом деле не попадаются, а может быть, наоборот, плавают целыми стаями; но, убаюканный согласным колыханием волн и грез, этот задумчивый юноша погружается в такую сонную апатию смутных, рассеянных мечтаний, что под конец перестает ощущать самого себя; таинственный океан у него под ногами кажется ему олицетворением глубокой, синей, бездонной души, единым дыханием наполняющей природу и человека; и все необычное, еле различимое, текучее и прекрасное, что ускользает от его взора, всякий смутно мелькнувший над волнами плавник невидимого подводного существа, представляется ему лишь воплощением тех неуловимых дум, которые в своем неустанном полете посещают на мгновение наши души. В этом сонном очаровании дух твой уносится назад, к своим истокам; он растворяется во времени и в пространстве <…> и под конец становится частью каждого берега по всему нашему земному шару.
И вот в тебе нет уже жизни помимо той, какой одаряет тебя тихое покачивание корабля, который сам получил ее от моря, а море – от загадочных Божьих приливов и отливов. Но попробуй только, объятый этим сном, этой грезой, чуть сдвинуть руку или ногу, попробуй разжать пальцы, и ты тут же в ужасе вновь ощутишь самого себя. <…> И может статься, в полдень, в ясный, погожий полдень, когда так прозрачен воздух, ты с коротким, сдавленным криком сорвешься и полетишь головой вниз в тропическое море, чтобы навсегда скрыться в его ласковых волнах. Помните об этом, о пантеисты!»
Жерар де Нерваль (романтик, о котором еще пойдет речь) дважды сходил с ума, пока не покончил с собой. И не он один.
Вот как изобразил Музу Михаил Врубель – «зовущую в неопределенную даль», весьма похожую на Снежную королеву (картина «Царевна-Лебедь», 1900 год):
«Мальчик испугался и спрыгнул со скамеечки, а мимо окна промелькнуло что-то, похожее на огромную птицу».
Рыжелистая рябина
В книге «О любви» Стендаль замечает:
«Влюбленный видит любимую женщину на линии горизонта всех пейзажей, попадающихся на его пути, и, когда он едет за сто миль с целью увидеть ее на один миг, каждое дерево, каждая скала говорят ему о ней различным образом и сообщают что-нибудь новое».
Для Стендаля это иллюзия, греза: на самом деле никакой любимой женщины в пейзаже нет. А вот для Пастернака – есть, как можно заметить, например, в романе «Доктор Живаго». Афродита выходит на сей раз не из воды, а из леса:
«Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого, и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем, и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и всё видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. “Лара!” – закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству».
«Вечерний лес», «сквозящий огнем зари» – это такое же сочетание «инь» и «ян», как и морская роза, как и «Все зримое опять покроют воды, И Божий лик изобразится в них!». Вы видите здесь основу, лес – «первооснову жизни», пронизанную светом. И «юношескому первообразу» главного героя (которого можно представить себе, например, как улыбающегося греческого юношу-куроса, «архаического Аполлона») откликается «первоначальное и всеохватывающее подобие девочки», которое представляет собой всю его жизнь.
Аполлон Тенейский. Около 560–550 годов до н. э.
Богиня возникает – и изменяет пространство, делает его очеловеченным: не безразличным для Юрия Живаго, а обращенным именно к нему, приглашающим в путь именно его – по заветной тропинке. Это, как мы прочли у Джойса, «кликнувшая его жизнь».
А далее в романе эта «девочка» предстает, оборачивается рябиной:
«У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая единственная изо всех деревьев сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь, к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых разордевшихся ягод. Зимние пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали.
Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина всё это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка младенцу. “Что, мол, с вами поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь”. И усмехалась».
Это то древнее (еще из каменного века) божество, которое условно называют «Великой Богиней». Она же Мировое Древо. Судите сами: растет оно на границе между пленом (принудительным пребыванием Юрия Живаго у партизан) и свободой: «у выхода из лагеря и из леса», оно выделяется из всех деревьев сохранившейся листвой, оно растет на горке и тянется к самому небу, оно кормит птиц своими ягодами: «давала им грудь, как мамка младенцу». Это мифическая «Хозяйка зверей». Для Юрия Живаго это сама Жизнь, это Душа Мира, это Лара.
И вот Живаго слышит возле рябины песню:
«Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал лекариху-знахарку. Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное, какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом всё смолкло. Все, наверное, разошлись.
Тогда Кубариха запела по-другому, про себя и вполголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную русскую песню. Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, это была ее импровизация?
Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вешняков и спокойствие ее поверхности обманчиво. Всеми способами, повторениями, параллелизмами, она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над собою тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами остановить время.
Кубариха наполовину пела, наполовину говорила:
Что бежал заюшка по белу́свету́,
По белу́свету да по белу́снегу́.
Он бежал косой мимо рябины дерева,
Он бежал косой, рябине плакался.
У меня ль у зайца сердце робкое,
Сердце робкое, захолончивое,
Я робею, заяц, следу зверьего,
Следу зверьего, несыта волчья черева.
Пожалей меня, рябинов куст,
Что рябинов куст, краса рябина дерево.
Ты не дай красы своей злому ворогу,
Злому ворогу, злому ворону.
Ты рассыпь красны ягоды горстью пу ветру,
Горстью по ветру, по белу́свету, по белу́снегу́.
Закати, закинь их на родиму сторону,
В тот ли крайний дом с околицы.
В то ли крайнее окно да в ту ли горницу,
Там затворница укрывается,
Милая моя, желанная.
Ты скажи на ушко моей жалёнушке
Слово жаркое, горячее.
Я томлюсь во плену, солдат ратничек,
Скучно мне солдату на чужбинушке.
А и вырвусь я из плена горького,
Вырвусь к ягодке моей красавице».
Юрий Живаго воспринимает эту песню, которую Кубариха пела вовсе не для него, а для себя («считая себя в полном одиночестве»), как обращенную именно к нему. Кем обращенную? Хозяйкой зверей.