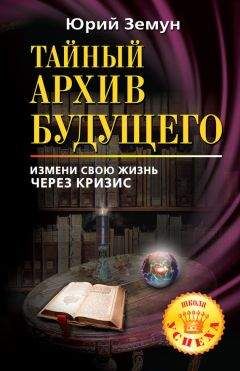Константин Станиславский - А.П.Чехов в Художественном театре
— Послушайте же, Ибсен не знает жизни. В жизни так не бывает.
В этой пьесе Антон Павлович не мог смотреть без улыбки на А.Р.Артема и все говорил:
— Я же напишу для него пьесу. Он же непременно должен сидеть на берегу реки и удить рыбу...
И тут же выдумал и добавил:
— ...А Вишневский будет в купальне рядом мыться, плескаться и громко разговаривать...*
* А.Л.Вишневский жил в то время в доме Сандуновских бань и каждый день ходил купаться. Это-то и натолкнуло А.П. на такую шутку. (Прим. К.С.Станиславского.).
И сам покатывался от такого сочетания.
Как-то на одной из репетиций, когда мы стали приставать к нему, чтобы он написал еще пьесу, он стал делать кое-какие намеки на сюжет будущей пьесы.
Ему чудилось раскрытое окно, с веткой белых цветущих вишен, влезающих из сада в комнату. Артем уже сделался лакеем, а потом, ни с того ни с сего, управляющим. Его хозяин, а иногда ему казалось, что это будет хозяйка, всегда без денег, и в критические минуты она обращается за помощью к своему лакею или управляющему, у которого имеются скопленные откуда-то довольно большие деньги.
Потом появилась компания игроков на бильярде. Один из них, самый ярый любитель, безрукий, очень веселый и бодрый, всегда громко кричащий. В этой роли ему стал мерещиться А.Л.Вишневский. Потом появилась боскетная комната, потом она опять заменилась бильярдной.
Но все эти щелки, через которые он открывал нам будущую пьесу, все же не давали нам решительно никакого представления о ней. И мы с тем большей энергией торопили его писать пьесу.
Насколько ему не нравился Ибсен, настолько он любил Гауптмана. В то время шли репетиции «Микаэля Крамера», и Антон Павлович усиленно следил за ними.
У меня осталась в памяти очень характерная черта его непосредственного и наивного восприятия впечатлений.
На генеральной репетиции второго акта «Микаэля Крамера» я, стоя на сцене, слышал иногда его смешок. Но так как действие, происходившее на сцене, не подходило к такому настроению зрителя, а мнением Антона Павловича я, конечно, очень дорожил, то этот смешок несказанно меня смущал. Кроме того, среди действия Антон Павлович несколько раз вставал и быстро ходил по среднему проходу, все продолжая посмеиваться. Это еще больше смущало играющих.
По окончании акта я пошел в публику, чтобы узнать причину такого отношения Антона Павловича, и увидел его сияющего, так же возбужденно бегавшего по среднему проходу.
Я спросил о впечатлении. Ему очень понравилось.
— Как это хорошо! — сказал он. — Чудесно же, знаете, чудесно!
Оказалось, что смеялся он от удовольствия. Так смеяться умеют только самые непосредственные зрители.
Я вспомнил крестьян, которые могут засмеяться в самом неподходящем месте пьесы от ощущения художественной правды.
— Как это похоже! — говорят они в таких случаях.
В этом же сезоне он смотрел «Три сестры» и остался очень доволен спектаклем. Но, по его мнению, звон набата в третьем акте нам не удался. Он решил сам наладить этот звук. Очевидно, ему захотелось самому повозиться с рабочими, порежиссировать, поработать за кулисами. Ему, конечно, дали рабочих.
В день репетиции он подъехал к театру с извозчиком, нагруженным разными кастрюлями, тазами и жестянками. Сам расставил рабочих с этими инструментами, волновался, рассказывал, как кому бить, и, объясняя, конфузился. Бегал несколько раз из зала на сцену и обратно, но что-то ничего не выходило.
Наступил спектакль, и Чехов с волнением стал ждать своего звона. Звон получился невероятный. Это была какая-то какофония, — колотили кто по чем попало, и невозможно было слушать пьесу.
Рядом с директорской ложей, где сидел Антон Павлович, стали бранить сначала звон, а потом и пьесу и автора. Антон Павлович, слушая эти разговоры, пересаживался все глубже и глубже и наконец совсем ушел из ложи и скромно сел у меня в уборной.
— Что же это вы, Антон Павлович, не смотрите пьесу? — спросил я.
— Да послушайте же, там же ругаются... Неприятно же...
И так весь вечер и просидел у меня в уборной.
Антон Павлович любил прийти до начала спектакля, сесть против гримирующегося и наблюдать, как меняется лицо от грима. Смотрел он молча, очень сосредоточенно. А когда какая-нибудь проведенная на лице черта изменит лицо в том направлении, которое нужно для данной роли, он вдруг обрадуется и захохочет своим густым баритоном. И потом опять замолчит и внимательно смотрит. Антон Павлович, по моему мнению, был великолепный физиономист. Однажды ко мне в уборную зашел один близкий мне человек, очень жизнерадостный, веселый, считавшийся в обществе немножко беспутным.
Антон Павлович все время очень пристально смотрел на него и сидел с серьезным лицом молча, не вмешиваясь в нашу беседу.
Когда господин ушел, Антон Павлович в течение вечера неоднократно подходил ко мне и задавал всевозможные вопросы по поводу этого господина. Когда я стал спрашивать о причине такого внимания к нему, Антон Павлович мне сказал:
— Послушайте, он же самоубийца.
Такое соединение мне показалось очень смешным. Я с изумлением вспомнил об этом через несколько лет, когда узнал, что человек этот действительно отравился.
Бывало и так: придешь к Антону Павловичу, сидишь, разговариваешь. Он на своем мягком диване сидит, покашливает и изредка вскидывает голову, чтобы через пенсне посмотреть на мое лицо.
Сам себе кажешься очень веселым. Придя к Антону Павловичу, забываешь все неприятности, какие бывали у меня до прихода к нему. Но вдруг он, воспользовавшись минутой, когда оставались одни, спросит:
— Послушайте! У вас же сегодня странное лицо. Что-нибудь случилось с вами?
Антон Павлович очень обижался, когда его называли пессимистом, а его героев неврастениками. Когда ему попадались на глаза статьи критиков, которые тогда с такой желчью придирались к нему, то он, тыкая пальцем в газету, говорил:
— Скажите же ему, что ему (критику) нужно водолечение... Он же тоже неврастеник, мы же все неврастеники.
Потом, бывало, заходит по комнате и, покашливая, с улыбкой, но со следами горького чувства, повторит несколько раз, выделяя букву «и»:
— Пессимист!
Антон Павлович был самым большим оптимистом будущего, какого мне только приходилось видеть. Он бодро, всегда оживленно, с верой рисовал красивое будущее нашей русской жизни. А к настоящему относился только без лжи и не боялся правды. И те самые люди, которые называли его пессимистом, сами первые или раскисали, или громили настоящее, особенно восьмидесятые и девяностые годы, в которые пришлось жить Антону Павловичу. Если прибавить при этом его тяжелый недуг, который причинял ему столько страданий, его одиночество в Ялте и, несмотря на это, его всегда жизнерадостное лицо, всегда полное интереса ко всему, что его окружало, то вряд ли в этих данных можно найти черты для портрета пессимиста.
Весною этого же [1902] года театр поехал в Петербург на гастроли. Антон Павлович, бывший к тому времени уже в Ялте, очень хотел поехать вместе с нами, но доктора не выпустили его из Ялты. Мы играли тогда в Панаевском театре и, помню, очень боялись, что нам не разрешат сыграть «Мещан» Горького.
Для цензуры был назначен до открытия сезона особенный спектакль «Мещан». На этом спектакле присутствовали великие князья, министры, разные чиновники из цензуры и т.д. Они должны были решить, можно играть эту пьесу или нельзя. Сыграли мы как можно деликатнее, с вырезками, которые мы же сами сделали.
Пьесу в конце концов разрешили. Цензурный комитет велел вымарать только одну фразу:
«...в доме купца Романова...»
По окончании репетиции все заинтересовались артистом Б[арановым], игравшим роль Тетерева. Б. поступил к нам из певчих что-то на очень маленькое жалованье, чтобы только не служить в хоре. Он обладал колоссальной фигурой и архиерейским басом. Несколько лет он пробыл незамеченным и, получив роль Тетерева, которая очень подошла к его данным, сразу прославился.
Помню, А.М.Горький очень носился в то время с Б., а Антон Павлович все твердил:
— Послушайте же, он же не для вашего театра.
И вот Б. после репетиции привели в зрительный зал. Светские дамы восторгались самородком, находили его и красивым, и умным, и обаятельным. А самородок сразу почувствовал себя как рыба в воде, стал страшно важен и для большего шика заявлял кому-нибудь из высшего света своим трескучим басом:
— Ах, извините, я вас не узнал.
Состоялся первый спектакль. Под сценой была спрятана дюжина вооруженных городовых. Масса мест в зале было занято тайной полицией — словом, театр был на военном положении.
К счастью, ничего особенного не произошло. Спектакль прошел с большим успехом.
На следующий день, когда вышли хвалебные рецензии, Б. явился в театр в цилиндре. Бывший в это время в конторе цензор просит познакомить его с Б.