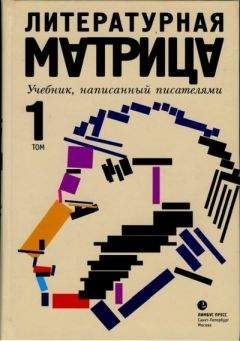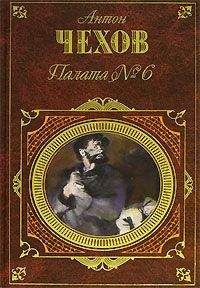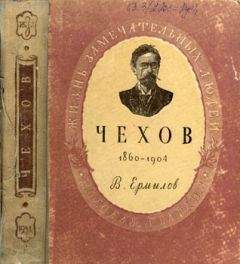Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
О чем же, собственно, рассказ? История не то что обычная, но даже и банальная, едва ли не до пошлости. Бывший царский генерал, одинокий (жена бросила в Константинополе, то есть при бегстве от большевиков), зашел как-то пообедать в маленький русский ресторан в Париже. Познакомился с официанткой (тоже из «бывших благородных» и одинокая), заинтересовался ею, потом увлекся, потом влюбился, и они стали жить вместе… Что в этом? И зачем автор так подробно описывает вот что:
«При столовой было нечто вроде гастрономического магазина — он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом».
Что это, что все эти засохшие пирожки, посеревшие котлеты, неприязненное русское лицо? Зачем они? А затем, господа, что это эмиграция, и после «посеревших котлет» уже ни о чем не надо больше упоминать, уж весь остальной кошмар вы сами поймете. Ибо даже такая сытая и сравнительно благополучная эмиграция — это именно кошмар, а прочее додумать и почувствовать несложно, главное уже сделал за вас Иван Алексеевич Бунин, великий изобразитель, — увидал это «нечто вроде»…
Или вот, пожалуйста, если вам еще не удалось почувствовать себя в Париже вместе с героями:
«Из метро несло банным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она».
Как еще показать (именно показать, а не просто описать!) одиночество чужих в парижской толпе, если не этим банным ветром из метро, если не низким утиным кряканьем газетчика, как еще показать ожидание встречи, а не рассказать о нем? Ну, можно было бы так, например: «Он с нетерпением ждал ее в толпе возле метро. Рядом что-то кричал газетчик…» — и так далее. И получилось бы вполне литературно, и любой писатель, кроме Бунина (и, что немаловажно, до Бунина, a после него так уж невозможно), написал бы что-нибудь в этом роде. Но Бунин чувствует, осязает, вдыхает банный ветер, слышит именно утиное кряканье, а не просто крик продавца газет, — и я слышу, осязаю, вдыхаю вместе с ним и его героями эту жизнь, и уже ничего больше не надо, чтобы вдруг навернулись на глаза слезы, а из-за чего — кто ж его знает, кроме автора…
«Темные аллеи» было принято еще при жизни автора поругивать — да, бывает, и сейчас осторожно упрекнут — за «старческое сладострастие»: Бунин написал большую часть этого цикла действительно сильно немолодым человеком — например, «В Париже» датирован 26 октября 1940 года, когда автору пошел уже восьмой десяток. Однако упрекать Бунина в бессильном эротизме могут только люди, совершенно глухие к чуду изобразительности. Потому что плотская любовь им показана с тем же изобразительным волшебством, что сад под дождем или осенние поля, и не старческое бессилие отпечаталось в ее изображении, а могущество художника.
«Он предложил еще выпить вина.
— Нет, дорогой мой, — сказала она, — я больше не могу.
Он стал просить:
— Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пуи.
— Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам… И вообще, зачем нам расставаться?
Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.
Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.
— Нельзя сюда! — сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску…
Через день, оставив службу, она переехала к нему».
Не только в русской классической литературе, большей частью робкой в изображении телесной страсти, но и во всей литературе мировой я не знаю более точного, зримого изображения любви зрелых, измученных одиночеством людей. Хорошо же «старческое бессилие», когда из всей сцены прочнее всего запоминается дождь по крыше, тепло в ванной комнате и горечь холодного белого вина!
Ну, а дальше, как и следовало ожидать, как и ожидали мы, окутанные бунинской интонацией, погруженные в придуманную и нарисованную им жизнь:
«На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, — читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза…
Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной — и о ее, конченной.
Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре[37], увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде».
Вот и все. Сейчас, в сотый, наверное, раз перечитав «В Париже», почувствовал, что глаза, как всегда, на мокром месте — что за наваждение? Ведь не только потому, что тут такая ненужная смерть, которую побеждает автор, но не его герои. В конце концов, тот же Бунин написал «Господина из Сан-Франциско», который (вместе, пожалуй, с толстовской «Смертью Ивана Ильича») едва ли не исчерпал возможности литературы в изображении смерти, исчезновения… Но «В Париже» — тут другое дело. Тут главное, наверное, эта дореволюционная генеральская шинель на красной подкладке. Умерла страна, вот что, а не только старый человек, под конец жизни ставший счастливым. Не разглядел бы автор сквозь свои слезы эту сохраненную и пронесенную сквозь катастрофу шинель — и не было бы чуда…
Так писал Бунин, и никто до него так не писал. А после него стараются многие, но это уж после… Да и трудно у них получается, с натугой. Хотя есть одно сближение, которое, на мой взгляд, делает опыт Бунина чрезвычайно внятным тому поколению ныне пишущих, которое большую часть жизни успело прожить еще в империи. Суть в том, что он писал по памяти об исчезнувшей стране — и нам приходится писать точно так же о стране, в которой мы когда-то жили. Разница, правда, огромная: он томился тоской по отечеству, разрушенному бандитами и превращенному ими в свое бандитское имение, мы же вспоминаем это самое имение, которое было для нас отечеством. Мы не любили ту жизнь, противостояли ей — так ведь и Бунин, хотя бы в той же «Деревне», не славословил родину… Но рухнуло все — и возникла почему-то тоска…
Свои автобиографические заметки о детстве и юности «Далеко эта Орша», написанные уже больше десяти лет тому, я закончил маленьким эссе о Бунине. Мне кажется, текст не слишком устарел, поэтому приведу здесь его целиком.
Когда в середине шестидесятых вышел девятитомник Бунина, и я, темный советский недоросле, обнаружил в седьмом — к сегодняшнему дню уже совершенно развалившемся — томе «Темные аллеи», и прочел к утру, и не поехал в университет со своей улицы Рабочей, одним концом упиравшейся в проходную ракетного завода, где мне предстояло работать, а другим — в роддом, где предстояло родиться моей дочери, и, не поехав в университет, так и остался валяться в постели, как бы больной, и действительно почти заболевший, и открыл том снова, и к вечеру закрыл перечитанным, и пошел в университет, чтобы встретить друзей и отправиться с ними вместе в парк Шевченко пить пиво, и потом с кем-то шел по темной аллее махровой сирени, ведущей к мосту-переходу на Комсомольский остров, и валялся там ночью на быстро остывающем песке пляжа с одной с романо-германского, и песок скрипел между нами, а утром, возвращаясь, я вспомнил рассказ «В Париже», о любви и смерти белого генерала-эмигранта, и заплакал — когда все это происходило, понять еще ничего было невозможно.
Почему ему дали Нобелевскую премию? Уж если за что-то ее и было давать, так именно за это… и почему именно об этом писал семидесятилетний старик, уже небогатый и почти безвестный, уже больной и некрасивый? И почему я читал все это сутки подряд и плакал после совсем неплохой, вполне захватывающей ночи на пляже, вспомнив другого старика, выдуманного, умершего до моего рождения, в Париже, где мне еще только предстояло побывать? Теперь, именно теперь многое становится понятным. Теперь мы живем, окруженные тенями жизни ушедшей, империи рухнувшей, разрушившегося уклада. Мы простились с жизнью, похороненной под этими обломками, и какой бы ни была дурной та жизнь, а она была — и нету. «Стояла темных лип аллея…» [38]