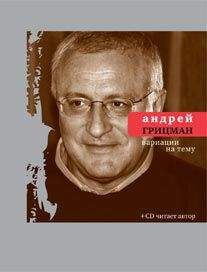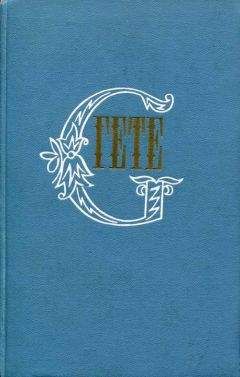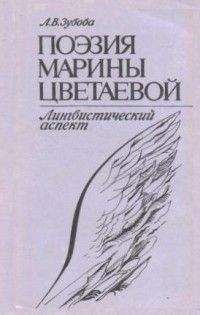Октавио Пас - Избранные эссе
Отрочество — это разрыв с миром детства и остановка перед вступлением в мир взрослых. Шпрангер{271} говорит об одиночестве как отличительной черте отрочества. Нарцисс, затворник — вот образ подростка. В этом возрасте впервые осознается собственная непохожесть. Но тут мы сталкиваемся все с той же диалектикой чувств: внутренний мир подростка все больше усложняется, но отроческий эгоцентризм может быть преодолен только забвением себя и самоотдачей. Поэтому отрочество — это не только возраст одиночества, это еще и период бурных страстей, героических поступков и самопожертвования. В фольклоре герой и влюбленный — это всегда отрок. Представление о юноше как об ушедшем в себя одиночке, сгорающем от желаний или терзаемом страхами, почти всегда дополняется другим образом: стайки куда-то идущих, поющих и танцующих юнцов. Или образом прогуливающейся по бульвару парочки. Подросток открыт миру: любви, деятельности, дружбе, спорту, подвигу. Современная литература — за красноречивым исключением испанской, в которой подросток всегда либо плут, либо сирота — изобилует подростками-нелюдимами, тоскующими по общению: по брачному кольцу, по ратному подвигу или подвигу веры. Отрочество — это посвящение в рыцари в преддверии великих деяний.
Для зрелого человека ощущение одиночества нехарактерно. Взрослый человек, вступая в жизненную схватку с другими людьми и с вещами, забывает о себе в процессе труда, созидания, в умственной и физической деятельности. Его самосознание сливается с сознанием других людей, время обретает для него смысл и направленность, становится историей, живой и содержательной связью с его прошлым и будущим. На самом деле наша непохожесть и особливость, проистекающая из нашей временности — из нашей роковой укорененности во времени, которое и есть мы сами и которое, питая нас, нас же и пожирает, — эта особливость остается при нас, но как бы в смягченном виде, так сказать «искупленная». Наша личная жизнь встраивается в историю, а история, по выражению Элиота, становится «а pattern of a timeless moments».[76]{272}
Поэтому приступы одиночества у зрелого человека — явление ненормальное. И то, что нынче таких одиноких много, указывает на серьезность недуга. Во времена, когда люди вместе работают, вместе поют и вместе развлекаются, человек одинок, как никогда. Современный человек не отдается всецело ни одному своему делу. Всегда какая-то частица нашего существа, самая сокровенная, остается незатронутой и бдит. В наш активный век люди сосредоточены на себе. Труд — единственный бог современности — перестал быть творчеством. Беспросветный труд вполне под стать бессмысленной жизни этого общества. Одиночество, которое порождает этот труд, стадное одиночество в отелях, конторах, заводских цехах и кинотеатрах — вовсе не испытание, которое облагораживает душу, не чистилище. Это всеобщий приговор, зеркальное отражение обреченного мира.
Наши герои и святые словно олицетворяют собой двойственный смысл одиночества: разрыв с одним миром и попытку создать новый. Миф, жизнеописание, история и поэма всегда описывают годы одиночества и затворничества, чаще всего совпадающие с ранней юностью, за которыми следует возвращение в мир и период активной деятельности. Это время учебы и подготовки к жизни, но прежде всего — период самопожертвования и покаяния, испытаний, искупления и очищения. Одиночество — это разрыв с обветшавшим миром и собирание сил для решающей схватки. Арнольд Тойнби иллюстрирует эту мысль большим числом примеров: платоновский миф о пещере, жития св. Павла, Будды, Магомета, Макьявелли, Данте. Да и каждый из нас на свой манер переживал одиночество, испытывал желание побыть наедине с собой и обновленным вернуться к своим.
Эту диалектику одиночества, «the twofold motion of withdrawl-and-return», по Тойнби, можно уловить буквально в истории всех народов. Возможно, в древних обществах, которые были не так сложно организованы, как наше, она еще более ощутима.
Нетрудно себе представить, каким опасным и пугающим казалось одиночество первобытному человеку, которого мы так самонадеянно и так неточно называем диким. Вся сложная окостенелая система запретов, правил и ритуалов архаической культуры служила тому, чтобы оградить его от одиночества. Пребывание в коллективе — единственная гарантия нормального состояния и здоровья. Одиночка — больной, это сухая ветка, которую надлежит обрубить и сжечь, ведь в опасности все общество, если хотя бы один его член заболел одиночеством. Воспроизведение вековечного ритуала не только обеспечивает жизненную устойчивость социальной группы, но и поддерживает ее структурную целостность. Ритуал и неизменное присутствие духов умерших — вот тот стержень, на котором держатся все установления, ограничивающие свободу индивидуального действия и оберегающие человека от одиночества, а группу — от рассеяния.
Для первобытного человека принадлежность группе есть жизнь, меж тем как рассеяние для него — смерть. Ушедший из родных мест «перестает быть членом группы. Он умирает, и над ним совершается обычный погребальный обряд».[77] Пожизненное изгнание равносильно смертному приговору. Один африканский обычай служит наглядным примером идентификации социальной группы с духами предков, а духов предков — с землей: «Когда один из туземцев возвращается из Кимберли с женщиной, ставшей его женой, они приносят с собой немного земли. Каждый день женщина должна есть эту землю… чтобы привыкнуть к новому месту. Горсть праха позволяет ей прижиться среди чужих». Солидарность для этих людей — «органичная жизненная потребность. Индивид буквально часть единого тела». Поэтому очень редки индивидуальные обращения. «По одиночке ни в рай, ни в ад никто не попадет»,[78] ведь то, что случается с одним, касается всех остальных.
Какими бы ни были, однако, предосторожности, группа не застрахована от рассеяния. Что угодно может стать причиной ее распада: войны, религиозный раскол, изменения в способе производства, завоевания… После распада общества каждая отколовшаяся часть оказывается в принципиально новой ситуации: одиночество — результат разрыва кровеносной системы, питавшей прежнее закрытое общество — отныне не просто опасность, которая могла бы миновать, но неизбежный удел, глубинная сущность бытия. Бесприютность и покинутость выливаются в ощущение греховности, не связанное ни с каким определенным проступком: грех — в самом человеке. Вернее, сама человеческая природа греховна. Одиночество — первородный грех человека. Сопричастность и нравственное здоровье по-прежнему оказываются синонимами, только теперь все это в незапамятном прошлом. Так было в золотом веке, до того, как началась история, и мы, возможно, вернемся в этот век, если нам удастся выбраться из западни времени. Так сознание греха рождает нужду в искуплении, а оно — нужду в том, кто эти грехи искупит.
Рождается новая мифология и новая религия. В отличие от прежнего, новое общество текуче и всему открыто, ведь его составляют изгнанники. Мало родиться в этом обществе, чтобы принадлежать ему. Это дар свыше, и его надо заслужить. Заклинание постепенно преображается в молитву, мотив очищения начинает доминировать в обряде инициации. Вместе с идеей искупления возникают религиозная мысль, аскетика, богословие и мистика. Жертвоприношение и причастие перестают быть тотемным пиршеством — если когда-нибудь это и было так, — открывая доступ в новое общество. Некий бог, почти всегда бог-сын, потомок древних демиургов, время от времени умирает, для того чтобы снова воскреснуть. Это бог плодородия, но и спаситель тоже, принесение его в жертву — залог того, что земное общество есть прообраз той совершенной жизни, что ждет нас по ту сторону смерти. В чаяниях запредельного мира слышна тоска по былому. Обещание спасения неявно сулит возвращение золотого века.
Разумеется, трудно представить себе, чтобы в истории того или иного общества сошлись все перечисленные здесь особенности. Тем не менее иногда история в деталях воспроизводит очерченную здесь схему. Например, зарождение орфизма. Как известно, культ Орфея возникает после крушения ахейской цивилизации, в период, когда греки были разобщены и народы и культуры вынуждены были заново притираться друг к другу. Потребность восстановления старых социальных и религиозных связей кладет начало возникновению тайных культов, адептами которых были только «те неприжившиеся на новом месте переселенцы, которых насильно пересадили на эту землю, мечтавшие о такой общности, которую никому не отнять. Одно имя им всем — сироты».[79] (Замечу, кстати, что orphanos не только «сирота», но и «пустота». Что ж, в конечном счете разве одиночество и сиротство не переживания пустоты вокруг нас?)
Культы Орфея и Диониса, как и позже пролетарское религиозное учение, провозглашающее конец старого мира, — все это знаки перехода от закрытого общества к открытому. Сознание вины, ощущение одиночества и потребность в искуплении играют в них такую же двоякую роль, как и в жизни индивида.