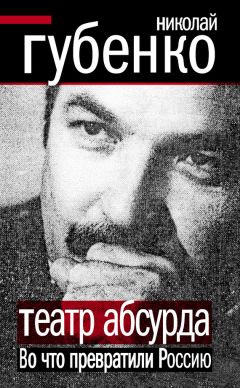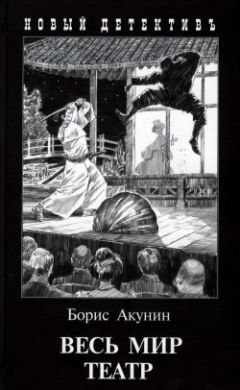Мартин Эсслин - Театр абсурда
Велика и сфера прозы бессмыслиц — от Лоуренса Стерна до афоризмов Лихтенберга; от Шарля Нодье до Марка Твена и Амброуза Бирса. Восхитительны бессмыслицы в маленьких пьесках Ринга Ларднера (1885–1933). Эдмунд Уилсон сравнивал их с творчеством дадаистов, однако эти пьесы относятся к англо-саксонской традиции бессмыслиц. Они написаны в драматической форме, иногда их ставят в театре, но эти миниатюрные шедевры тонкого non sequitur по сути не пьесы. Некоторые самые смешные моменты содержатся в ремарках, и потому эти маленькие пьески больше впечатляют при чтении, нежели на сцене. Как, например, сыграть такую ремарку в «Водяных лилиях»?» Mama enters from an exclusive as if waffle parlour. She exits she had had waffles.[55] Несмотря на симпатичные алогизмы, диалог этих маленьких пьесок, как и большинство произведений, построенных на свободной ассоциации, обладает психологической значимостью, возвращая к основам человеческих отношений. В The Tridget of Griva двое в шлюпке воображают, что ловят рыбу. Один спрашивает другого: «Какая девичья фамилия твоей матери?» и получает в ответ: «Я её тогда ещё не знал». В «Обеденном бридже» один из персонажей открывает, что его первая жена умерла. Его спрашивают: «Сколько лет вы были женаты на ней?» Его ответ и остроумен, и резок: «Всё время, пока она не умерла». В «Обойщиках» один гость спрашивает другого: «Где вы родились?» — и получает ответ: «В законном браке». Далее первый гость комментирует: «Какое прелестное место». Когда собеседник, в свою очередь задаёт вопрос, женат ли он, тот отвечает: «Не знаю. Со мной живёт женщина, но я не знаю, кто она».
Бессмыслицы Ринга Ларднера родственны монологам Роберта Бенчли. Ещё один блестящий американский создатель прозы бессмыслиц — С. Дж. Перелман, автор лучших диалогов в фильмах братьев Маркс, оказал влияние на театр абсурда.
Преобладающее большинство поэзии и прозы бессмыслиц достигает свободы, расширяя границы смысла и освобождая от логики и узкой условности. Однако существует другой род бессмыслиц, опирающийся на сужение, а не на расширение языковых границ. Этот приём, наиболее использованный в театре абсурда, основывается на сатирических и деструктивных клише, превратившихся в обломки мёртвого языка.
Выдающийся первопроходец этого рода бессмыслиц — Гюстав Флобер. Его занимала проблема человеческой глупости, и он составил «Лексикон прописных истин», словарь клише и автоматических ответов, приложение к его посмертно опубликованному роману «Бувар и Пекюше». С тех пор словарь постоянно пополняется новыми статьями, и сейчас в нём больше тысячи статей, в которых в алфавитном порядке приведены самые общие клише, неверные представления и признанные ассоциации идей французских буржуа XIX века: «Деньги — корень зла», или «Д’Аламбер всегда следует за Дидро», или «Никто не имеет понятия о янсенизме, но говорить о нём считается высшим шиком».
За Флобером идёт Джойс, создавший энциклопедию английских клише в эпизоде «Улисса» с Герти Макдауэл — Навсикаей. И театр абсурда, от Ионеско до Пинтера, продолжает черпать неистощимые запасы комического из кладезя клише и готовых языковых форм, открытых Флобером и Джойсом.
Театр абсурда использует традиции, складывающиеся веками: мифологические, аллегорические и фантастические способы мышления, как проекции психологических реалий. Между мифом и фантастикой тесная связь; мифы — коллективная фантазия человечества. Мир мифа почти полностью исчез, обретя силу на коллективном уровне в самых рационально организованных обществах Запада, особенно он был эффективен в фашистской Германии. Таковым он остался в странах тоталитарного коммунизма. Но как замечает Мирча Элиаде: «На уровне индивидуального опыта миф никогда полностью не исчезал; он проявляется в снах, фантазиях и устремлениях современного человека»21. Театр абсурда выражает устремления к мифу. Об этом говорит Ионеско в одном из своих самых страстных воззваний в защиту театра абсурда: «Ценность «Конца игры» Беккета… в том, что она ближе к Книге Иова, чем бульварный театр или chansonniers. Сквозь бездну веков, эфемерный феномен истории, менее эфемерную архетипическую ситуацию, эта пьеса обнаруживает первоначальный объект, с которого всё начиналось. …Самые новейшие, самые современные произведения искусства останутся в веках, о них будут говорить во все эпохи. Да, царь Соломон, вождь движения, к которому я принадлежу; и Иов — современник Беккета»22.
Литература сновидений всегда связана с аллегорическими элементами; более того, символическое мышление — одна из характерных черт сновидений. Питер-пахарь, «Божественная комедия» Данте, «Путь паломника» Беньяна, пророческие образы Уильяма Блейка — аллегорические сновидения. Этот элемент бывает формально интеллектуальным, педантичным, как в некоторых autos sacramentales в испанском барочном театре, или же сохраняет поэтическое свойство тщательно разработанными аналогиями, как в «Королеве фей» Спенсера.
В театре не всегда удаётся разграничить поэтическую реальность и мир сновидений. В шекспировском «Сне в летнюю ночь» есть сны и иллюзии, метаморфозы Основы и любовные чары, но и вся пьеса — сновидение. Сюжет «Зимней сказки» кажется невероятно натянутым и вычурным, если воспринимать его как реальность, но всё становится на свои места и обретает трогательную поэтичность, если видеть в пьесе сновидение об осознании вины, преображённое в чудесную фантазию осуществленных желаний. Елизаветинский театр иногда близок к концепции зала зеркал Жене: мир воспринимается как театр, а жизнь как сон. Если Просперо говорит:
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны.
И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь. (IV, 1).[56]
Эта же идеей пронизан театр Кальдерона, и не только в пьесе «Жизнь есть сон», в которой жизнь приравнивается к сновидению, но и в возвышенном аллегорическом представлении «Великий театр мира», где мир явлен как театр, и каждый персонаж играет роль, предназначенную ему Творцом, создателем мира. Персонажи разыгрывают свои жизни во сне, от которого их пробуждает смерть, и они переходят в реальность вечного спасения или проклятия. Пьеса Кальдерона основывается на тексте Сенеки (Epistolae LXXVI, LXXVII), в котором дан образ сильных мира сего, но их жребий не лучше жребия актёра, складывающего после спектакля атрибуты власти.
В прекрасной аллегорической драме эпохи барокко Cenodoxus[57] немецкого иезуита Якоба Бидермана (1635), в которой дьяволы и ангелы сражаются за душу героя, хор поёт в час смерти:
Vita enim hominum,
Nihil est, nisi somnium.
(Воистину жизнь человеческая /есть ничто, только
сон.)
Самые известные непомерно жестокие барочные пьесы — трагедии Джона Уэбстера и «Трагедия мстителя» Сирила Тернера; в них сновидения другого рода — жестокие кошмары, страдания, месть.
Со спадом моды на аллегории начинает преобладать фантастический элемент, как в сатирических фантазиях «Путешествия Гулливера» Свифта или в готических романах в духе «Замок Отранто» Уолпола, где таинственный шлем вторгается в замок, подобно растущему трупу в «Амедее» Ионеско. Если сновидческий мир барочной аллегории был символический, но строго рационалистический, то в сновидческой литературе XVIII — начала XIX века увеличивается количество текучих идентичностей, неожиданных трансформаций персонажей и кошмарных сдвигов времени и места. Э. Т. А. Гофман, Жерар де Нерваль и Барбье д’Орвильи — мастера этого жанра. Для современников их фантастические сказки представлялись научной фантастикой; сегодня они воспринимаются, как сновидения и фантазии, проекции агрессии, вины, желаний. Экстравагантные оргиастические фантазии маркиза де Сада — ещё более понятные проекции психологической реальности в форме литературной фантазии.
В драматической литературе мотив сновидений проявляется, как реальные события, как сон простака: таково приключение Слая, обрамляющее сюжет «Укрощения строптивой». В замечательной, варварски жестокой комедии Людвига Хольберга «Йеппе с горы» (1722) пьяного крестьянина Йеппе, проснувшегося в замке барона, убеждают, что он в раю, но во второй раз он просыпается на виселице. Гёте отважился показать мир сновидений в двух сценах Вальпургиевой ночи в первой и во второй частях «Фауста». В «Пер Гюнте» Ибсена есть сцены сновидческой фантазии; в одном из шедевров венгерской драмы «Трагедия человека» Мадача действие сконцентрировано на сне Адама о будущем человечества и его гибели. Первым, представившим на сцене мир сновидений в духе современных психологических концепций, был Август Стриндберг. Триптих «На пути в Дамаск» (1898–1904), «Игра снов» (1902) и «Соната призраков» (1907) — мастерская адаптация снов и наваждений, источник театра абсурда. В этих пьесах перемещение из объективной реальности внешнего, правдоподобного мира к субъективной реальности внутренних состояний сознания завершено окончательно и самым блистательным образом. Это перемещение показывает водораздел между традиционной и современной, репрезентативной и экспрессионистской проекцией ментальных реальностей. Центральный персонаж «На пути в Дамаск» окружен архетипическими фигурами: Дама олицетворяет его восприятие женской половины рода человеческого; Неизвестный — его вечный, исконный враг и в то же время эманация его личности, искуситель, олицетворение его пороков; Исповедник и Нищий — персонификация его лучших черт. В том же ключе решается и сценическое пространство вокруг этих фигур, представляя эманацию ментальных состояний героя или автора. Пышный банкет, на котором он представлен правительству как великий изобретатель, внезапно превращается в сборище сомнительных личностей, издевающихся над ним, потому что он не в состоянии уплатить по счёту. Как говорит Стриндберг в предисловии к «Игре снов»: «В этой игре снов, как и в предыдущей пьесе «На пути в Дамаск», автор стремился представить бессвязную, но логическую форму сновидения. Всё возможно; всё вероятно. Времени и пространства не существует. На хрупкой основе реальности воображение плетёт и ткёт новые образы, рожденные памятью, опытом, высвобожденными фантазиями, абсурдом и импровизациями. Персонажи расщеплены, двойствены, сложны; они испаряются, кристаллизуются, рассеиваются и соединяются. И только сознание сновидца властвует над ними. Для него нет тайн, нет абсурда, нет сомнений и законов…»23