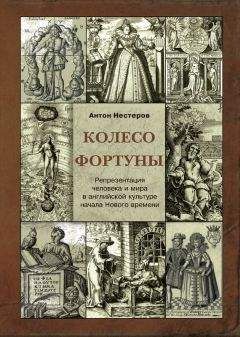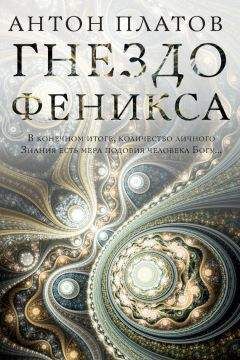Александр Луцкий - Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века
Весьма показательно, что романтик готов признаться в братских чувствах к природе лишь в том случае, когда она воплощает идею свободного полёта его души. Но даже и тогда она остаётся близнецом-врагом. Восточному же автору никогда, разумеется, ничего подобного не могло прийти на ум. Если он и считал себя братом природы, то самым младшим и немощным, способным только в мизерной степени отобразить богатство её жизни. Рассматривать природу как нечто равное своей личности – на такое был способен лишь западный художник.
Различие в понимании отношения «человек – природа» на Западе и в Японии весьма тонко проанализировала И. А. Боронина на примере исследования японской средневековой литературы. Развивая позицию замечательного русского японоведа Сержа Елисеева, заметившего, что «японец не олицетворял природы, он жил её настроениями, не внося в неё своих чувств»,[445] Боронина уточняет, что персонификация все же была, но весьма особенная. «Бесспорно, – пишет она, – это была персонификация иного рода, отличная от западноевропейской. Если последняя является результатом художественного отвлечения от предмета, то олицетворение природы в японской литературе есть следствие слияния художника с изображаемым».[446]
Иными словами, в паре «человек – природа» западная мыслительная и художественная традиция однозначно помещает на первое место человека, считая природу хотя и важным, но второстепенным по отношению к нему персонажем. Напротив, в духовной традиции Японии природа – гораздо более значимый и активный компонент. На большом количестве примеров, взятых из классической японской литературы, И. А. Боронина демонстрирует, насколько японец «вписан» в природу, как изображение его чувств и эмоций легко замещается живописанием состояния окружающей среды. «Нередко картины природы как будто выражают смысл происходящего, либо предваряют то, что должно случиться с героями произведения».[447] Многие сюжетные ходы, судьбы героев оказываются соотнесенными с природными сезонными изменениями. В художественном комплексе традиционных японских искусств гэйдо индивид органично «встроен» в природный универсум в отличие от романтизма, где тот ему противопоставлен.
Одна из общих и распространённых тем в литературе гэйдо и в литературе романтизма – уход из социума в природу. Однако и здесь мы видим существенную, глубинную разницу. В Японии, например, уход в горный, затерянный в лесах монастырь или удаление в глухую провинцию имеют целью растворение личности в универсуме, достижение максимального отречения от себя, от своих эгоистических желаний; в сущности – стирание индивидуального я.[448]
В романтическом искусстве, наоборот, доминирует тенденция противопоставления гордого деятельного л инертной природе и социуму. Природа – лишь фон для сасмоутверждения романтического героя (вспомним пушкинского Алеко из «Цыган» или лермонтовского Мцыри). При этом главным предметом романтического мировосприятия выступает человек-творец в прекрасном и яростном мире. «Герой романтического произведения – художник, маг, борец, бунтарь, изгой, чудак – всегда вынужден утверждать себя вопреки обстоятельствам, он идёт наперекор судьбе во имя высоких духовных целей».[449] Он противопоставлен обывательской рутине и избегает общества унылых сограждан, связанных скучными правилами буржуазной морали. Приоритет живого чувства над рассудочной холодностью, который он утверждает не только теоретически, но и всем своим живым, телесным поведением, влечёт его к природе, к путешествиям по миру.
Многое роднит романтического героя со странником-даосом или буддийским монахом. Свою жизнь он видит как «всегда особый, свой путь самостановления, самопреображения – нелёгкий путь эволюции сознания личности, старающейся… раздвинуть рамки конечного, чтобы увидеть то, что ей в данный момент представляется истинным и бесконечным».[450]
Одним из знаковых произведений считается роман Новалиса (1772–1801) «Генрих фон Офтендинген», в котором странствие героя по просторам родной Германии является необходимым условием внутреннего становления героя как художника. Целью такого самостановления является создание идеального произведения, способного изменить мир. Познание мира и себя осмысляется Новалисом как реальное творчество. И для него вполне ясно, что человеком, которому дано его осуществить, может быть только художник, Поэт, которому дано увидеть «образную», телесную основу мира и воссоздать её – создать идеальное произведение искусства.[451]
Родная природа, принимающая в себя путешествующего художника, таким образом, является в конечном счёте постаментом для его личных амбиций. Гордость от осознания собственной исключительности позволяет судить весь мир и делить всех живущих в нём людей, подобно тому, как это делал Э. Т. А. Гофман, на две неравные части: «истинных музыкантов» и всех прочих.[452]
Согласно романтикам, истинный творец – исключение в мире обывательской скуки. Романтизм воспевает гордеца-одиночку бросающего вызов буржуазному обществу и противопоставленного ему. Поэтому неслучайно среди героев-скитальцев часто встречаются и гордые злодеи, вроде Агасфера, Летучего голландца, Мефистофеля, Демона, Печорина. Здесь художественный метод и идеи романтизма напрямую сталкиваются с проблемой эстетизации зла.
Что касается странствий романтических героев, то их отношение к путешествию как к Пути телесного и ментального самостановления противоречиво. С одной стороны, это доверчивое, всеми чувствами приветствуемое вхождение в природный Универсум, но, с другой, – интеллектуальное отталкивание героем себя от этого Универсума. Это вечная драма раздвоенности, разорванности романтического художника между упоением от чувственно-телесного осознания себя малой клеточкой природы и рассудочной, самолюбивой позицией собственной исключительности.
Такая двойственность вовсе не случайна, она является следствием особенности западнохристианского мистицизма – идейной опоры романтизма, который утверждает обособленность, оторванность личности от бытия, несмотря на краткие моменты ментально-чувственного единения с ним. Гордый ум романтического художника не доверяет ощущениям «телесного разума», настаивая на своей принципиальной обособленности от природного континуума. Но «чем больше человек осознаёт свою самость и чем настойчивее становятся его попытки увеличить её и довести до совершенства – в сущности недостижимого, бесконечного, тем сильнее он отдаляется от глубины бытия, которая перестаёт быть его собственной основой».[453]
На Дальнем же Востоке одним из способов погружения в природный континуум считалось странствие. Пускаясь в путешествие, монах или художник не переставали быть сторонними наблюдателями за чередованием времён года и картин природы, превращаясь в непосредственных участников её тончайших перемен. Труд путешественника приводил к активизации телесного аспекта разума, заставляя забыть о лишних прихотях ума, о тщете мирской славы. «Разум тела» и выступал тем необходимым творческим зарядом, который, постепенно накапливаясь в процессе тяжелого рутинного труда Пути, выплёскивался в спонтанном характере творческого акта. «Вхождение» в поток природного Бытия, будучи смирением, самопринижением индивидуума, подспудно становилось его вторым, расширенным я, стимулирующим творческую активность. Поэтому выходило, что художник творит, как природа.
Недаром в традиционном искусстве гэйдо художник только тогда становится истинным мастером, когда, осознав разумом своего тела единство с природным континуумом, начинает действовать как проводник «бессчётных утончённостей» жизни, как самый прилежный её ученик. Здесь природа тихо-естественна. В таких, к примеру, жанрах, как «бамбук» или «цветы и птицы», она спокойно созерцается художником. Природа приближена к зрителю и как бы призывает полюбоваться мельчайшими деталями: листиками, тычинками, пёрышками. Монохромный пейзаж, напротив, отодвигает природу вдаль, заставляя прежде всего воспринимать её величие и самодостаточность и осознавать собственную малость. Спокойствие природы как Универсума – будь то величие её целого, либо гармония её малых частностей – никогда не служит прямой иллюстрацией субъективных состояний художника. Человек, личность здесь почти отсутствует. Движения руки художника подчинены прежде всего выявлению внутренней сущности изображаемого фрагмента, а его собственное внутреннее состояние резонирует с природным состоянием, но никак не наоборот. Берясь за кисть, художник вбирает природу в себя, а не навязывает ей свои субъективные состояния.