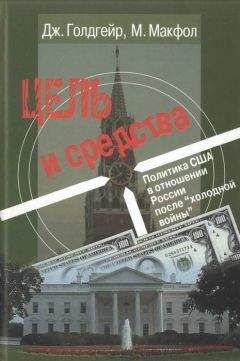Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
И наконец, на русской почве начинает произрастать культ классической античности. Сначала у Польши, затем у итальянских и французских путешественников была заимствована идея, что классические формы искусства и жизни могут послужить дополнением (если не альтернативой) христианским формам. Мало-помалу складывается убеждение, что классическая античность способна — без помощи христианских откровений — ответить на многие злободневные проблемы. Первым литературным произведением классической античности, переведенным на русский язык в XVIII в., были басни Эзопа, а первым ансамблем новой формы искусства — скульптуры — в Санкт-Петербурге стала серия статуй работы Растрелли-отца, иллюстрирующая мораль отдельных басен. Новые поэты и прозаики, начинавшие творить при Елизавете в сороковых годах, все пользовались классическими формами; оды, элегии и тонический стих пришли на смену силлабическим стихам конца XVII в. В новых операх, пьесах и балетах елизаветинской эпохи античные сюжеты использовались гораздо чаще библейских — в полную противоположность театру времен Алексея. Петр Великий заказал свой бюст в обличии римского императора, а латынь стала научным языком новой Академии наук.
Обращение к античным образам в стране, столь удаленной от античного мира, указывает на скрытую нереальность ранней послепетровской культуры. Бирюзовая голубизна, в которую окрашивали стены зданий, придавала оттенок призрачности великолепным сооружениям новой столицы. Неисчерпаемое изобилие трехмерных декоративных эффектов — изощренные пилястры, статуи, садовые павильоны — отражает общее стремление искусства барокко подчинить себе свой материал, а в конечном счете и саму Природу[620]. Подобное стремление выглядело особенно дерзким и нереальным среди таких неотесанных людей и в таком суровом природном окружении.
Быть может, именно бессознательным ощущением этой нереальности объясняется почти маниакальная любовь Елизаветы к маскарадам. Вещи не были тем, чем казались, ни в интерьерах, ни в танцах елизаветинского двора. Зашифрованные максимы, басни и акростихи завоевали прочное место при царском дворе[621], а в Академии наук с 1735 г. существовала кафедра аллегории. Празднование коронования Елизаветы в 1740 г. включало два аллегорических балета, ее любимый вид театрального развлечения. На протяжении своего царствования она все чаще устраивала не просто разнообразные балы-маскарады, но и так называемые «метаморфозы», для которых мужчины наряжались женщинами и наоборот. Лаборатория для изготовления фейерверков и деревянный «театр иллюминаций», вдававшийся в Неву напротив Академии наук, представляли собой еще одни формы искусственности, введенные Елизаветой. Величайший русский ученый того времени Михаил Ломоносов, судя по всему, извлекал большое удовольствие из своего назначения на пост официального летописца таких иллюминаций. Он описывает, как при одной из них великий Колосс смотрит в сторону моря, вознося к небу факел и вензель Елизаветы:
Далече блеск пускал чрез море нсустройно
И корабли шюдил в пристанище спокойно[622].
Таким Колоссом был и Санкт-Петербург, расположенный у восточного берега Балтийского моря, но фундамент его не был незыблемым. Его возвели в болотном краю, где шведы и финны строили только форты и рыбацкие поселки. Ему постоянно угрожали наводнения. Пушкина, Гоголя и других писателей поздней императорской эпохи завораживал этот вызов природе, заложенный в самом создании новой столицы. История европейской культуры в этом городе напоминает историю экзотической пальмы в рассказе Всеволода Гаршина. Искусственно пересаженная из жарких краев в оранжерею северного города, эта пальма тщится одарить все запертые в оранжерее покорные растения буйной свободой своей родины. Ее блистательное устремление вверх, к неуловимому солнцу, завораживает всех, однако этот стремительный рост завершается развитым потолком оранжереи и убийственной встречей с подлинным климатом этих мест[623].
К концу правления Елизаветы Санкт-Петербург по численности населения примерно сравнялся с Москвой, а по культуре походил на ведущие столицы Европы. Он уже был «…одним из самых странных, самых красивых, самых ужасных и самых драматичных великих городов мира. Северное местоположение, косой угол солнечных лучей, плоская местность, пересекаемая многочисленными широкими полосами мерцающей воды, — все это соединяется в подчеркивании перевеса горизонтальных линий над вертикальными и повсюду создает ощущение необъятности, гигантских расстояний и мощи… Рассекая город пополам до самого центра, Нева быстро и бесшумно катит свои холодные воды — слиток гладкого серого металла… и они несут с собой щемящий привкус безлюдной шири лесов и болот, которые оставили позади. Везде чувствуется близость бескрайних диких просторов русского Севера — безмолвного, угрюмого, бесконечно терпеливого»[624].
Устремленность к небу и прихотливость москвитянской архитектуры были отвергнуты, и лишь одни вертикали Адмиралтейства и Петропавловской крепости хранят память о военных интересах основателя города. Обрамление довершают унылые северные времена года — темные зимы, долгие сырые весны, июньские «белые ночи» с их поэтичной игрой оттенков — «и, наконец, короткое блеклое лето, больше намек, чем реальность… страстно любимое жителями города именно потому, что оно кратко, а жаркие дни редки.
В таком городе внимание человека волей-неволей сосредоточивается на самом себе… Человеческие отношения обретают особую яркость и напряженность с привкусом неясных предчувствий…
Этот город был и остается трагическим городом, созданным искусственно… географически неудачно расположенным и тем не менее наделенным завораживающей, неотступно преследующей красотой, будто какое-то ироничное божество позаботилось хоть чем-то искупить все жесткости и все ошибки»[625].
Таким был Санкт-Петербург, символ новой России, город, которому предстояло господствовать над набирающей силы интеллектуальной и административной жизнью империи. Однако победа Санкт-Петербурга и его новой светской культуры не была полной. Особенности мышления Древней Московии продолжали властвовать как в старой столице, так и в значительной части русской провинции. Более того, традиционалистская религиозная культура Московии не раз предпринимала мощные — хотя некоординированные и в конечном счете безуспешные — контратаки на культуру Санкт-Петербурга. Эти движения протеста находили широкую поддержку в народе и способствовали превращению идеологического раскола между старым и новым в глубокую социальную пропасть между народной и элитарной культурами.
Оборона МосковииЕще при жизни Петра две главные формы москвитянского протеста достигли высшего напряжения — утверждение общинности старообрядцами и возглавляемые казаками крестьянские бунты. Оба эти движения возникли при Алексее, но только при Петре обрели четкую традицию с широкой общественной основой и глубокой идеологией. Они часто накладывались одно на другое и усиливали друг друга, одинаково идеализируя москвитянское прошлое и ненавидя новую светскую бюрократию. Они во многом определили характер всех оппозиционных движений при Романовых, не исключая и те, что привели к падению этой династии в 1917 г.
При Петре старообрядцы укрепили свое влияние над многими великороссами. Усиление неоформившихся старообрядческих движений отражает не столько растущую поддержку их доктрин, сколько недовольство распространением засилья иноземцев в стране. Переход от Московского государства к многонациональной империи был особенно болезненным для великорусских традиционалистов. Он включал рост государственной бюрократии, в которой главенствовали более опытные и умелые прибалтийские немцы, а также натурализацию лучше образованных католиков и евреев с бывших польских территорий. Хаос войны и социальных перемен сообщил притягательность немудреной гипотезе старообрядцев, что царство Антихриста совсем близко, что на Петра в заморских странах напустили порчу и что наводнение перед смертью Петра было предупреждением о каре, которую разгневанный Бог обрушит на этот новый мир.
Старообрядчество особенно утвердилось в психологии торговых сословий, и не только из страха перед иностранной конкуренцией, но и из-за особой неприязни к центральной бюрократии. Великорусские купцы, нажившие богатства на русском Севере и защищенные традиционными вольностями его городов, были больно ушиблены новой политикой усиления центрального контроля. И они находили утешение в старообрядчестве, отождествляя свои утраченные экономические привилегии с идеализированной христианской цивилизацией Древней Московии. Они предпочитали переселяться в новые места, лишь бы не отказываться от былых свобод и не менять привычные торговые навыки. Постепенно развилась колонизация внутренних необжитых областей недовольными великороссами, которые соединяли старые формы богослужения с пуританским общинным образом жизни. Вера в скорое наступление конца света существовала л в этих новых общинах, но ожидание Судного дня скорее побуждало не откладывать труды на благо общины, нежели опускать руки ввиду близкого Апокалипсиса. После реформ Никона и Петра уже нельзя было обрести спасение в таинствах Церкви или служении государству. Теперь спасения искали в суровых уединенных общинах, которые одни только и сохраняли органичную религиозную цивилизацию москвитянского прошлого.