Татьяна Григорьева - Японская художественная традиция
И все же в рассказах Сайкаку большая упорядоченность, чем, например, в дзуйхицу Сэй Сёнагон. Главы повести «Об одинокой сладострастнице» имеют единую внутреннюю структуру. Каждая глава завершена, имеет начало и конец. Общее рассуждение — о нравах гетер разного ранга или об обычаях жителей Осака — соединяется своеобразной дугой с конкретной ситуацией — новым эпизодом из жизни героини. Это общее рассуждение нередко выносится в подзаголовок, выражая авторскую оценку: «Красавица — причина многих бед», «Свадьбы не по средствам» и т.д. Единство внутренней структуры позволило соединять главы между собой не по принципу последовательной линейной связи, а по принципу нахождения одного на другое, что Кавабата обозначил словом касанэру [11] — «обычные вещи, обыкновенные слова незамысловато, даже подчеркнуто просто воздвигнуты друг над другом (касанэру), но они и передают сокровенную суть Японии» [64, с.13]. Это один из наиболее устойчивых структурных признаков, который обнаруживается и в характере японской письменности (самостоятельном в китайском и полусвязанном в японском существовании иероглифов), в образном строе танок, в архитектуре пагод. Чтобы строить так произведение, не нужно быть дзэн-буддистом, нужно быть японцем. Люди воссоздают мир, как видят его. Такова традиционная структура прозаических произведений. Они состоят из ряда самостоятельных отрывков, и этот ряд может продолжаться до бесконечности в соответствии с представлением о безостановочности движения и может неожиданно оборваться.
Мироощущение, «манера понимать вещи» не могли не сказаться на стиле, и в рассказах мы обнаруживаем традиционный прием намека (ёдзё), словесно-образную связь по ассоциации (энго), игру слов — все, что придавало целому гибкость. Горожане, полюбившие Сайкаку, были, видимо, начитанны в поэзии. И все же нельзя не заметить огромной разницы между классическими моногатари и «рассказами о бренном мире».
Сайкаку любит сокрушаться по поводу быстротечности жизни: «А наша жизнь — пена на этих волнах — поистине достойна сожаления... Нет ничего более превратного, чем жизнь человеческая, более жестокого, чем человеческая судьба. А умрешь, и ничего не останется — ни ненависти, ни любви!.. А ведь жизнь бренна, жизнь — сон, жизнь — лишь видение нашего мира» — таковы зачины и концовки сборника новелл «Пять женщин, предавшихся любви» [149, с.29, 79, 81]. Но чувство бренности не имеет той глубины, того ощущения сопричастности миру, которые позволяли видеть «красоту преходящего» и на все смотреть под углом зрения «очарования вещей». Скорбь Сайкаку носит более приземленный, более эгоцентрический характер. Это сожаление по поводу не столько быстротечности вообще, сколько сиюминутной собственной жизни, и не столько самой жизни, сколько тех радостей, которые она дает. Писатель ко всему относится полусерьезно, полунасмешливо. Не легкую улыбку (окаси) Сэй Сёнагон, рожденную восторгом перед удивительностью мира, находим мы в его рассказах, а насмешку горожанина, любившего повеселиться.
Для Сайкаку нет запретов, осмеянию подлежит и то, что раньше вызывало душевный трепет.
Не было в моногатари и прямых наставлений наподобие тех, которые встречаются в новеллах из «Пяти женщин, предавшихся любви»: «А ведь есть на свете божество, есть возмездие, и дурные дела, как их ни прячь, непременно дадут себя знать. Выходит, человек должен опасаться ложного пути... Да, не избежать человеку возмездия за дурные дела. Сколь страшен этот мир!» [149, с.44, 46]. Раньше, если автор и отваживался на совет, то облекал его в иносказательную форму.
Зато Сайкаку рисует полнокровную жизнь, без прикрас, и мы действительно можем судить о нравах и чувствах горожан и самураев XVII в. Это уже не «храм красоты, воздвигнутый над действительностью», а сама действительность как она есть.
Сайкаку справедливо называют писателем-реалистом, но не потому, что он дает «зарисовки с натуры» и использует в своих рассказах действительные события, не потому, что он живописал жизнь «в формах самой жизни», а потому, что созданные им образы психологически достоверны. Яркий стилист и проницательный художник, он поведал о страданиях, на которые обречена была японская женщина в обществе неукоснительных правил и запретов.
В начале работы я остановилась на мнениях японских критиков, которые называют «Гэндзи-моногатари» и рассказы Сайкаку вершинами реализма (сядзицусюги) в Японии. Хотя и в том и в другом случае они пользуются термином сядзицусюги, метод Сайкаку коренным образом отличен от метода Мурасаки. И не удивительно. Иным стал дух эпохи. Интерес вызывало то, что приносило пользу, внимание переключилось с внутреннего на внешнее, на вещный мир, определявший судьбы людей. Отсюда — новое понимание макото. Теперь правду искали не в «очаровании вещей», не за гранью видимого мира, а в житейских заботах. Такие принципы, как ёдзё, перестали быть формообразующими. Правду вновь, но уже на другом уровне, стали понимать как верность факту, соответствие тому, что происходит в данный момент в мире семейного быта. Реализм Сайкаку — не реализм в нашем понимании. По замечанию Дональда Кина, реализм Сайкаку основан на ниспровержении нормальных законов перспективы: поразительно точный в деталях, он вовсе не правдоподобен в сущности. Реализм Сайкаку, по мнению Кина, отстоит от реализма европейской литературы на десятки световых лет.
Может быть, временное сопоставление и не правомерно: реализм Сайкаку и реализм европейских писателей расположены в разных плоскостях. Каждый унаследовал свою традицию. Оба типа реализма отличаются друг от друга методом, который зависит от понимания правды. Проза горожан, естественно, начиналась с интереса к делам житейским. По мере того как набирал силу «здравый смысл», возрастал интерес к правде факта, так что Тикамацу вынужден был предостеречь от чрезмерного правдоподобия, которое, с его точки зрения не соответствует подлинной правде искусства. «Некто сказал: „Люди нашего времени не хотят смотреть пьес, если они недостаточно разумно обоснованы и не похожи на правду. В старых рассказах попадается много таких вещей, которых не примет нынешний зритель. Вот почему игра актеров Кабуки признается искусной, если она напоминает подлинную жизнь. Актеры стараются играть так, чтобы вассал на сцене походил на настоящего вассала, а князь — на князя. Зритель не потерпит ребяческой бессмыслицы, какой нередко грешили в старые времена”.
Тикамацу ответил на это: „Подобный взгляд на искусство кажется верным, но он обличает незнание его подлинных средств. Искусство находится на тонкой грани между правдой („тем, что есть”) и вымыслом („тем, чего нет”). В самом деле, поскольку наш век требует, чтобы игра напоминала жизнь, артист и старается верно скопировать на сцене жесты и речь настоящего вассала, но, спрашивается в таком случае, разве настоящий вассал князя мажет свое лицо румянами и белилами, как актер? И неужели публике понравилось бы, если бы актер отрастил себе бороду, обрил голову и в таком виде вышел на сцену, ссылаясь на то, что подлинный вассал не старается украсить свое лицо? Вот почему я и говорю, что искусство находится на грани правды и вымысла. Оно — вымысел и в то же время не совсем вымысел; оно — правда и в то же время не совсем правда. Лишь на этой грани и родится наслаждение искусством”» [104, с.80-81].
Однако предостережение Тикамацу не могло остановить того, что было вызвано потребностями общественного развития. Интерес к практическим знаниям, обостренный кризисным состоянием страны в XVIII в. [12], заставлял японцев с риском для жизни доставать европейские книги (они стоили иногда целого состояния) и извлекать из них нужные сведения, чтобы как-то исправить положение. Появилось новое направление в науке — сторонников европейских знаний (рангакуся). Один из них, Хонда Тосиаки, писал о практическом характере европейского искусства: «Один человек спросил меня: „Почему европейская живопись отличается от китайской или японской?”
Я ответил: „Европейская живопись воспроизводит объект в величайших подробностях, так, чтобы картина точно походила на объект, который изображает, и служила каким-нибудь практическим целям”» (цит. по [71, с.68]). Рангакуся Сатакэ Ёсиацу говорил: «Чтобы живопись была хоть сколько-нибудь полезной, она должна правдиво передавать то, что изображает. Если нарисовать тигра похожим на собаку, отсутствие сходства становится смешным. Возвышенные умы, провозглашающие, что художник должен изображать идеи, а не просто внешнюю форму, упускают из виду практическую пользу живописи» (цит. по [71, с.68]). Таково было веяние времени. И хотя при жизни Сайкаку эта тенденция только начинала проявлять себя в искусстве, отражая утилитарные склонности нарождавшейся буржуазии, тем не менее внимание к реалиям, практические советы, поучительные примеры — неотъемлемые признаки его рассказов. Вместе с тем в его произведениях достаточно гротеска. Но не случайно именно с городской гравюры укиё-э началось в Европе увлечение японским искусством. Условность укиё-э, необычный угол зрения приковали к японской гравюре внимание французских импрессионистов и писателей-натуралистов (Золя, Гонкуров) помогая им новыми глазами увидеть старый мир.
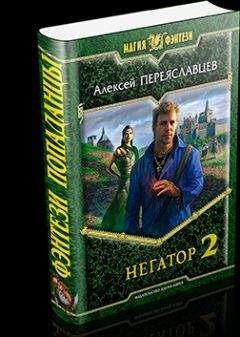

![Алексей Переяславцев - Негатор, или История неправильного попаданца [СИ]](/uploads/posts/books/199519/199519.jpg)
