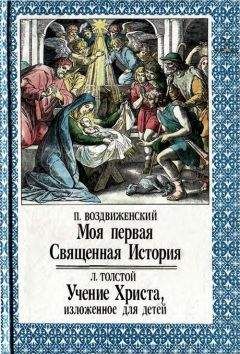Сергей Аверинцев - Статьи не вошедщии в собрание сочинений вып 1 (А-О)
I. Мифопоэтическое художественное сознание. Архаический период (поэтика без поэтики)
Словесное искусство архаического периода, которому свойственно мифопоэтическое сознание, представлено тремя различными, но и объединенными общими признаками группами текстов. Во-первых, оно выступает как архаический фольклор, предшествующий всякой литературе. Его древнейшее состояние реконструируется преимущественно путем сравнительного изучения наличного фольклора бесписьменных народностей, сохранивших этнографически-пережиточные формы культуры. Во-вторых, оно выступает как архаическая литературе, по ряду признаков — принципиальная анонимность, вариативность редакций и т.д.— еще не вполне отделившаяся от фольклора, ориентирующаяся на фольклорные источники, нередко прямо фиксирующая их облик. В-третьих, оно выступает как традиционный фольклор, развивающийся параллельно с литературой и во взаимодействии с ней. Соответственно художественное сознание эпохи репрезентируют наличные или реконструируемые памятники мифологии и архаического фольклора бесписьменных обществ; памятники традиционного фольклора; классический эпос как явление пограничное между фольклором и литературой; литературы древнего Ближнего Востока (египетская, шумерская, ассиро-вавилонская, ханаанейско-финикийская, еврейская, арамейская), Ирана (авестийская), Индии, Китая и Греции (начальных периодов). Нижняя хронологическая граница памятников архаического и тем более традиционного фольклора, в связи с особыми социально-экономическими условиями бытования ряда культур, часто отодвигается далеко за пределы древности, и хронологические рамки в таких случаях последовательно заменяются стадиально-типологическими. Но для архаической письменной литературы эти рамки достаточно четки, составляя древнейший период истории поэтики. Для литератур Ближнего Востока речь в основном идет о периоде до эпохи эллинизма (со включением памятников, не затронутых перестройкой культуры по греческим образцам, вплоть до прихода ислама); для Индии и Китая — приблизительно до I в. н.э.; для Греции (гомеровский эпос) — до VII-VI вв. до н.э. Архаическая литература противостояла фольклору главным образом способом хранения информации (сначала устным, а затем письменным — в первом случае и только устным — во втором), но опиралась на общие мифопоэтические представления и была близка ему своей поэтикой — конечно практической, поскольку теоретической еще не существовало. Для всей области словесного искусства архаического периода характерна вначале полная неразмежеванность эстетического критерия с критериями внеэстетическими, внесловесными, заданными нормой ритуализованного быта. Позднее, в архаической литературе и в традиционном фольклоре, эта неразмежеванность перестает быть такой безусловной, но остается преобладающей и определяющей вплоть до перехода от архаического периода к традиционалистскому. Первобытная культура синкретична как идеологически (главным образом за счет ее мифологичности), так и формально (главным образом за счет ее ритуальности). В ритуальном комплексе — в том, что создатель теории первобытного синкретизма А.Н.Веселовский называл народно-обрядовыми играми,— соединены зачатки словесного, музыкального, танцевального, театрального искусства, а также эпического, лирического и драматического родов поэзии. Впрочем, дифференциация начинается рано. Повествовательное искусство, особенно тесно связанное в генезисе с мифами, почти с самого начала развивается как в рамках обряда, так и вне его (хотя и в тесном контакте с ритуалами). Даже в очень архаических культурах зафиксированы не только обряды, включающие рецитацию мифов или имеющие мифологические эквиваленты,— таких, вообще говоря, большинство,— но также обряды, не имеющие мифологических эквивалентов и, напротив, мифы, не имеющие ритуальных эквивалентов. В рамках синкретического обрядового комплекса различные роды словесного искусства выступают каждое со своей спецификой. Так, во многих архаических обрядах жесты участников действа являются подражанием повадкам тотемических зоо-ант-ропоморфных "предков" (танец, пантомима), пение — величанием этих "предков" (лирика), между тем как мифологический комментарий старейшин повествует о странствиях "предков", об их подвигах в "пору сновидений" (эпос). В рамках мифа и ритуала развивается также ораторское искусство со своеобразным набором приемов древнейшей риторики. Ритуалы и пение связаны с различными обрядовыми циклами — календарными (в том числе аграрными), "переходными" (т.н. rites de passage — рождение человека, инициация, то есть посвящение в вожди или шаманы или просто переход в половозрастную группу взрослых мужчин или женщин, наконец, смерть человека), свадебными, похоронными и т.п.; соответственно они имеют некоторую магическую утилитарную задачу. Обрядово-лирическая поэзия включает знахарские врачевательные заговоры, охотничьи песни, военные песни, песни, связанные с аграрной магией, похоронные причитания, песни смерти, любовные песни, "позорящие" (хулительные) песни, шутливые ритуальные перебранки. В этой поэзии можно найти образцы большой лирической силы, но в целом она весьма далека от "чистой" лирики — в ней преобладает стихия обрядового символизма, много описательных моментов. Ее содержание и форма строго канонизированы. В архаической литературе, особенно на зрелой ее стадии, и отчасти в традиционном фольклоре степень связи с ритуалом может быть как непосредственной (обрядовые тексты, входившие в процедуру общинного празднества, общинного траура, храмового культа и т.п.), так и весьма опосредованной. В связи с прогрессирующим общественным расслоением особую роль приобретает обусловленность форм словесного искусства не ритуалом в узком смысле, а этикетом, церемониалом поведения человека в соответствии с его местом среди людей: например, в церемониал поведения "мудреца" входит сентенциозно-афористическая и загадочно-метафорическая речь. Принципиальное качество речи как украшенной (прежде всего — формульной, обычно — риторической, менее обязательно — метафорической, загадочной, каламбурной и т.п.), имеющей для себя предпосылки и в представлениях о магии слова, и в мнемотехнических приёмах, сохраняющих свое значение и после изобретения письменности, осознается как вытекающее из: а) характера сакрально-бытовой ситуации общинного торжества; б) характера предмета речи, относящегося к сфере общинного предания, традиционной или пророческой "мудрости"; в) социального статуса говорящего или пишущего как носителя "мудрости", или вообще лица маркированного, в этикет явления которого перед людьми входит особая манера изъясняться, будь-то шаман, ведун, позднее — пророк вроде иранского Заратуштры или библейских пророков, религиозный учитель вроде индийских брахманов, но также шут, потешный дублер сакральной особы, а в эпоху государственности и развитой классовой цивилизации — писец и книжник, носитель бюрократического авторитета, обязанный своим престижным положением к тому, чтобы упражняться в собирании и сочинении афоризмов, загадывании и разгадывании загадок и т.п. Жанры "художественные" не могут быть противопоставлены жанрам архаической "преднауки" и "предфилософии", а с возникновением ранней бюрократии — жанрам "деловым", т.е. "канцелярским"; напротив, передача преднаучных знаний в оптимальной мнемотехнически форме, выражение предфилософских размышлений и обнародование решений общинного или государственного авторитета,— все это очень эффективно способствует в продолжение всего первого периода вызреванию возможностей художественного слова. Разве что письменные тексты типа купеческих контрактов (например, тех, которыми оказались так богаты развалины недавно открытого ханаанского города Эблы или руины критского Кносса), храмовых тарифов и т.п., составляющие значительную часть архаической письменности, должны быть исключены при рассмотрении искусства слова как такового,— да и то с осторожностью. Но изложение представлений о мире и о генезисе его частей, магико-медицинские рецепты, неотделимые от заговоров, племенные соглашения, сопровождаемые обстоятельными проклятиями нарушителю, законы, излагаемые в ритмической форме, изречения оракулов, проповеди религиозных деятелей, официальные документы и мемориальные надписи первых государств (пример — хотя бы надписи ассирийского царя Ашшурбанипала) — все это не менее "художественно", чем героический эпос или свадебная песня. При этом черты, воспринимаемые нами как выражения "художественности" и объективно таковыми являющиеся (суггестивный ритм, нагнетание игры слов и звуков, повторы), по своему первоначальному утилитарному назначению стимулировались уже упомянутой мнемотехнической функцией, которой отнюдь не утратили и тогда, когда стали предметом любования и фактором торжественности. Текст племенного предания или договора между племенами, передаваемого из поколения в поколение в одних и тех же словах, афоризм житейской или религиозной "мудрости", текст законоположения — все это должно было легко ложиться на память. (Сюда же относится характерная для поэтики архаической формульности, но сказывающаяся вплоть до евангельских пассажей техника употребления т.н. ключевых слов как опорных точек для памяти.) Для периода, таким образом, в качестве "рабочего" определения "художественности" пригодна в целом такая дефиниция: текст, устный или записанный, является художественным в той мере, в которой он предназначен для многократного дословного или приближающегося к дословному воспроизведения. Предназначен для воспроизведения — это значит, что он в глазах общества заслуживает воспроизведения и что он по своей форме объективно пригоден, приспособлен к воспроизведению; оба момента взаимосвязаны. Право быть воспроизводимым тексту дает его конкретное содержание, его внелитературная функция, его предполагаемое священное или вообще авторитетное происхождение (ср. ниже об авторстве); его эстетическое совершенство — всегда лишь привходящий фактор, редко осознаваемый и никогда не выделяемый, не становящийся предметом рефлективного вычленения и обсуждения. Современный читатель склонен воспринимать древнеегипетское "Прославление писцов" как ранний аналог "Памятника" Горация; но если Гораций называет свою литературную заслугу — введение форм эолийской лирики в римскую поэзию,— египетский текст говорит лишь о престиже профессии писца и о сакральной мудрости или пророческой одаренности древних авторитетов, то есть о реальностях с нашей точки зрения внелитературных, внеэстетических. Такая фундаментальная категория литературной реальности, как АВТОРСТВО, фольклору неизвестна. (Романтизм и немецкий классический идеализм, чьё влияние сказывается до сих пор, предложили представление о некоем коллективном всенародном авторстве; представление это отчасти схватывает реальность, отчасти мистифицирует ее). На стадии архаического фольклора песни рассматриваются как собственность мужских союзов и всякого рода ритуальных сообществ, и эта установка в модифицированном виде остается характерной и для традиционного фольклора. Сказанному не противоречит существование особых умельцев слова (по-гречески "демиургов", то есть мастеров, обслуживающих общину, как назывались эпические сказители-аэды); от индивидуального умения до индивидуального авторства — огромная дистанция. Дело не в том, что мы не знаем имен одаренных людей, творивших фольклорные памятники; дело в том, что культивирование индивидуальной манеры как особой ценности, осознаваемой в качестве таковой, противоречит самому существу фольклора. При переходе от фольклора к письменной литературе постепенно развивается обычай связывать литературные тексты с некоторыми именами, но об авторе в нашем смысле этого слова говорить не приходится. По большей части имя условно, и даже тогда, когда это имя действительного составителя текста, оно условно в принципе, по своей функции, по своему заданию. Имя выражает не идею авторства, а идею авторитета — чтимое имя ручается за чтимый текст: "Изречения Имхотепа", "Притчи Соломона", "Псалмы Давида", "Басни Эзопа", "Гимны Гомера". В древнекитайской литературе имена Мэн-цзы, Лао-цзы, Чжуан-цзы — это одновременно обозначения предполагаемых составителей Мэн Кэ, Ли Эра, Чжуан Чжоу, обозначения стилизованных персонажей тут же сообщаемых легенд и анекдотов и не в последнюю очередь — заглавия самих же книг. Легендарному мудрецу Вьясе приписывался первый вариант "Махабхараты", а заодно — редакция вед и пуран. Аккадский эпос о Гильгамеше, восходящий к более древним шумерским сказаниям, связан с именем некоего Син-леке-уннинни, это несколько иной случай — отсутствует известный всем легендарный образ, который был бы одновременно и санкцией текста, и персонажем, как образы тех же Лао-цзы и Чжуан-цзы, или Заратуштры по отношению к Авесте. Но сама формула заглавия эпоса о Гильгамеше — "О все видавшем, со слов Син-леке-уннинни, заклинателя" — отчетливо выражает специфическую для первого периода и далекую от идеи авторства функцию имени как ручательства за текст, юридически действительного свидетельства (нечто похожее на подписи свидетелей под завещанием или другим документом): заклинатель из Урука, живший, по-видимому, в конце II тыс. до н.э., как бы "заверил" так называемую ниневийскую версию эпоса — и для оценки смысла его имени внутри заглавия несущественно, сыграл ли он реальную роль в редактировании версии, и если да, то какую именно. Ибо даже тогда, когда у нас нет никакого основания сомневаться в принадлежности текста литературы архаического периода тому лицу, имя которого донесла до нас традиция (как обстоит дело, например, со значительной частью библейской "Книги Исайи", гл.1-39), функция имени остается в принципе той же самой: имя не связывается с индивидуальной манерой, характерностью стиля, оно гарантирует доброкачественность содержания и помимо этого указывает на жанр. Недаром та же "Книга Исайи" могла быть продолжена другими людьми и в другие времена, причем рассматривать эту практику как "интерполирование" и создание "псевдоэпиграфа" можно лишь с точки зрения представлений, выработанных позднейшими эпохами. Итак, архаическая литература наряду с безымянными текстами знает тексты, несущие имя их создателя, как условное, так — в некоторых, не всегда идентифицируемых случаях — и реальное, однако имя это в контексте сознания носителей культуры не соотносится с писательской индивидуальностью и в этом смысле не является указанием на авторство во всей полноте позднейшего содержания этого термина. Произведение скорее осознается как плод жизнедеятельности коллектива, чем как творение отдельной личности. Для первого периода нормой является также употребление авторитетного имени как знака преемства внутри наследственной или иной корпорации, перенимающей функции первобытных мужских союзов (брахманы, более специально — риши, суты, вандины в Индии, маги в Иране, библейские "сыны пороков", греческие "гомериды" и т.п.). Фактом культуры являются "авторские" права на текст не у лица, но и не просто у "всего народа", а у корпорации, принадлежность раз созданного текста корпорации — и лишь через корпорацию всей общине. (Это вносит важный корректив в упомянутую выше романтическую концепцию всенародного авторства). Необходима, впрочем, оговорка: случай, когда корпорация создателей/хранителей некоторого ряда текстов, объединенная авторитетным именем, с которым эти тексты соотносятся, институционально фиксирована, то есть представляет из себя корпорацию в полном смысле слова,— лишь показательная модель, лишь отнюдь не повсеместно достигаемый предел повсеместно наличной социо-культурной тенденции. Ближневосточные "мудрецы" — придворные писцы, обязанные своим положением посвящать свой досуг назидательным афоризмам, а потому являющиеся коллективным субъектом авторских прав на сборники таких афоризмов, украшенные именами Имхотепа, Соломона или Ахикара,— не были организованы в специальную корпорацию с целью производства афоризмов, а просто объединялись по признаку социального статуса. В Греции "Эзоповы" басни жили в устах рабов-педагогов (т.н. "дядек"), социальный статус которых был закономерно перенесен на самого Эзопа, которого можно было воображать себе только таким же фригийским рабом (как Ахикара — подобием всех придворных писцов ближневосточного мира). Эти примеры уточняют понятие корпоративного авторства, подлежащее отграничению, с одной стороны, от позднейшего индивидуального авторства, с другой стороны, от того же постулированного романтиками всенародного авторства. Вторая оговорка: различные жанры традиционного фольклора и тем более архаической литературы в весьма различной мере требуют или не требуют для своих создателей/хранителей особого социального статуса, принадлежности к более или менее замкнутому кругу (например, эпический сказитель — это особая фигура, но песню может сложить и спеть в принципе человек любого общественного положения). К концу архаического периода в рамках корпоративного авторства вызревает еще неосознанный феномен авторства индивидуального, имеющий бытие "в себе", но еще не "для себя", только подлежащий осознанию и самосознанию — когда последнее произойдет, это и будет означать переход к иному типу художественного сознания. В подготовке новых отношений особую роль играли случаи, осознаваемые как исключительные и соответственно отмечавшиеся, когда определенного типа творчество, место которому было уготовано внутри корпорации, происходило вне корпорации (ср. заявление библейского пророка Амоса: "я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикоморы" — Амос, 7, 14). Вторая фундаментальная категория поэтики — ЖАНР — также имеет в архаический период специфическую, внелитературную окраску, не совпадая ни по объему, ни по содержанию с привычным понятием жанра. О зачатках жанрового членения в архаическом фольклоре уже было сказано выше. Но и в традиционном фольклоре, и в архаической литературе жанровые структуры не отделимы от внелитературных ситуаций, жанровые законы непосредственно сливаются с правилами ритуального и житейского приличия. Разумеется, на разных стадиях и в разных жанрах это происходит по-разному. Некоторые фольклорные жанры жестко прикреплены к обрядовым ситуациям и вне их просто не существуют (свадебные, трудовые, календарные песни, причитания и т.п.); другие (сказка, эпическая песнь) не столь внутриситуативны, но и они в своем генезисе и основных функциях в первую очередь регламентированы общественным бытом и социальными институтами. Возьмем, однако, противоположный фольклору полюс архаической литературы — афористическое творчество "мудрецов"; и оно выявляет уже отмеченную выше тонкую связь с церемониально регламентированной внелитературной реальностью — здесь и престиж грамотности как таковой (древнеегипетское "Прославление писцов", упоминавшееся в иной связи, славит, собственно, не поэзию, не слово, не литературу, но тождество грамотности и мудрости), и престиж ранней централизованной государственности, требовавшей для столь важной особы, как писец, особо почтенного времяпрепровождения. Характерно, что в греческих полисах, не знавших, в отличие от Востока, ни деспотии, ни бюрократии, кратковременный расцвет деятельности "мудрецов" в VI в. до н.э. строго синхронен столь же кратковременному расцвету режима тирании, максимально приблизившей политическую жизнь Эллады к восточным режимам. Для архаической литературы характерна тенденция к формированию синкретических сводов, освященных традицией (т.н. "канон"). Многожанровость текстов, входящих в эти своды, не ощущалась как препятствие к их объединению, поскольку все они, с точки зрения традиции, обладали единой функцией. И древнеиндийские тексты, вошедшие в категорию шрути, и древнеиранские тексты, образовавшие Авесту, и древнееврейские тексты, сохранившиеся в составе Библии, жили в веках на правах священного писания религиозных общин; а если в древнем Китае кодификация эдиктов и песен ("Чжоу ли", "Шидзин") не приобрела специфически религиозного характера, то сама установка на построение замкнутого нормативного канона проявилась и там не менее отчетливо. Показательно в целом, что, относя произведения архаической литературы к эпике или лирике, истории или дидактике, мы обычно накладываем на них жанровую сетку позднейшей поэтики. Так, например, египетскую "Песнь арфиста", близкую по духу к библейскому "Екклезиасту", мы склонны рассматривать как произведение философской публицистики, между тем как она по происхождению принадлежит ритуальной литературе; "Рассказ египтянина Синухе" выглядит в наших глазах исторической повестью, в то время как он смоделирован по образцу надгробной автобиографической надписи. Когда же нам случается обнаружить тексты, отражающие собственные представления древних о составе их литературы (т.н. шумерские литературные каталоги, "Описание искусств и словесности" Бань Гу), то оказывается, что, во-первых, там перечисляются заведомо "нехудожественные", прикладные сочинения, а во-вторых, сами принципы предложенной ими жанровой классификации литературы для нас совершенно чужды. Третья категория — СТИЛЬ — в архаический период литературы тоже не имеет собственно поэтического смысла. Слово в первую очередь обладает магической, экспрессивной, коммуникативной, но не эстетической функцией. Для этого периода в целом характерно, что стилистические приемы, "фигуры речи", еще не осознаются и не выделяются в качестве простых украшений речи; их роль гораздо шире. Выше отмечалась мнемотехническая функция; игра слов и созвучий могла иметь магическое назначение; наконец, аналогия, сравнение, антитеза — для архаики универсальная форма мысли, преднаучного объяснения мира. В архаическом фольклоре обрядовая поэзия более изощрена, чем лирическая. В песнях ощущается ритм, приближающийся к регулярности метра. Ритмизация зачастую достигается растягиванием или добавлением слогов за счет эмфатических частиц и всякого рода восклицаний. Созвучия типа позднейшей рифмы, как правило, не характерны, ибо главное для архаической поэтики — это повторение не звуков, а смысловых комплексов; тяготение к повторам стимулируется верой в магическую силу слова. И позднее, в архаической литературе, оппозиции "высокой" и "низкой" лексики, как правило, не существует; синонимы используются не для распределения между стилистическими уровнями, а для нагнетания, усиливающего попарного соединения по типу: "путем-дорогою". Мастер словесного искусства не выбирает "нужное" или "уместное" слово, а сопрягает варианты (что опять-таки было связано в истоках с практикой заговора, где нужно на всякий случай заклясть предмет или лицо всеми могущими относиться к нему обозначениями, как бы окружить его со всех сторон оградой из слов, за пределы которой было бы невозможно вырваться). Рядоположности синонимов на уровне отдельных слов или небольших сочетаний слов соответствует на уровне больших речевых единиц универсальное для всего первого периода в целом явление синтаксического параллелизма, наметившееся уже в архаическом фольклоре и развернувшееся пышным цветом в архаической литературе. Самое раннее упорядочение лексики производится на путях взаимного притяжения и нанизывающего сопряжения слов одной семантической сферы, например, моральной; так, в ветхозаветных текстах слова, сходные по значению и, что важно, по своему фоническому облику, систематически выступают рядом, причем их смысловая дифференциация, которая предстояла лишь в будущем, пока не выявляется, уступая место, так сказать, смысловой конвергенции. Это способ оперировать с лексическим богатством языка чрезвычайно характерен для архаической поэтики. Таковы общие черты первого периода. Но в продолжение всего первого периода исподволь накапливаются и другие черты, до определенного момента не могущие определять собой характера словесного искусства и сами определяемые в своем значении архаическим контекстом, однако складывающиеся в возможность чего-то иного. Здесь следует отметить прогрессирующее размежевание сакральной и "мирской" сфер словесности, появление авторства "в себе", готового при дальнейшем росте рационализма и рефлексии перейти в состояние авторства "для себя", фактическое, хотя еще не обсуждаемое, развитие стилевой авторской манеры и эстетического подхода к творчеству и восприятию литературы. Одновременно закрепляется тот традиционализм содержания и средств выражения, который стал определяющим для поэтики последующей эпохи.