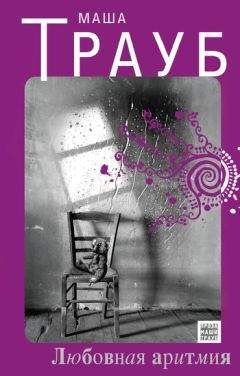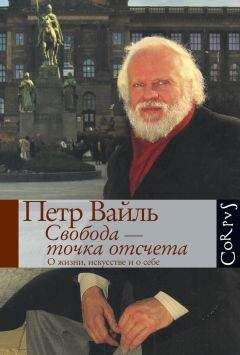Петр Вайль - Карта родины
В монументальной чехарде местной специфики нет — обычная советская история любых широт. В нынешнем Ташкенте примечательно разве что анекдотическое сооружение в районе правительственных зданий — глобус «Узбекистан»: на высоком гранитном постаменте — бронзовый земной шар с барельефной нашлепкой одной-единственной страны.
После провозглашения независимости неоригинально снесли все памятники русским классикам, кроме Пушкина. Главный режиссер ташкентского театра «Ильхом» Марк Вайль, мой приятель и отдаленный родственник, предполагает, что Пушкина простили за «Подражания Корану». «Он милосерд: Он Магомету / Открыл сияющий Коран, / Да притечем и мы ко свету, / И да падет с очей туман» — нечестивец, а вроде понимает. Пушкин, чья «муза, легкий друг мечты, к пределам Азии летала», в своем интересе к Востоку дальше Кавказа, по сути, не шел — впрочем, как и другие наши великие художники, определившие географию культуры. Русским Востоком был Кавказ; холодная лесная Сибирь не считалась Азией, скорее естественным продолжением России; Мавераннахр вовсе не вошел в русскую художественную традицию. Не успел: слишком поздно началось завоевание Туркестана. В России это происходило в связке — наша словесность была вооружена буквально: сочинители приходили на окраины империи в офицерской форме. Так впечатался Кавказ усилиями Бестужева-Марлинского, Лермонтова, Толстого; даже штатский Пушкин попал туда с действующей армией. Туркестанская эпопея пришлась на те времена, когда в литературе офицеров-дворян сменили шпаки-разночинцы, сосредоточенные не на больших просторах, а на маленьком человеке.
Марк Вайль поставил в своем «Ильхоме» пушкинские «Подражания Корану», как до того ставил «Счастливых нищих» Гоцци, где действие происходит в пусть фантастическом, но Самарканде при некоем хане Узбеке. В таком сопряжении России и Востока, Европы и Востока — не попытка пошатнуть киплинговскую формулу, а лишь осмысление повседневного окружающего. Созданный Марком в 76-м году «Ильхом» стал предметом гордости (участие и победы в международных фестивалях, всеевропейская известность) и ядром конденсации русского Ташкента, потому что — не просто театр. Речь даже не о том, что здесь, помимо спектаклей, в маленьком зале на сто семьдесят зрителей устраиваются концерты современной музыки и художественные выставки в фойе. Марк определяет «Ильхом» как театр стиля и образа жизни. Того стиля и образа, который выбивался из по-восточному неторопливого течения окружающей жизни, в годы после распада империи — особенно показательно. Русский Ташкент динамичнее Ташкента — именно это обстоятельство, а не конкретные социально-политические неудобства, обусловило русский исход из независимого Узбекистана. Пафос стилистической несовместимости звучит, хоть и не проговаривается, в документальном фильме «Ташкент. Конец века», который Марк Вайль снял в 97-м. Несовпадение общественных темпераментов. Мудрость Корана, даже в пушкинском упругом переложении, — восточная, не европейская мудрость: «Почто ж кичится человек? / За то ль, что наг на свет родился, / Что дышит он недолгий век, / Что слаб умрет, как слаб родился?» Никакой слабости, как кичились, так кичиться и будем, есть чем или нету — на том стоим.
Стоим с сестрой Леной у памятника Тимуру, она показывает: «Там мы жили до землетрясения, на углу Дзержинского и Опанасенко». Опанасенко прошел сквозь все испытания невредимым, Дзержинский исчез — самой улицы не стало. Нет улицы, нет дома, где тетя Надя паковала нам в Ригу посылки с полотняными мешочками изюма, урюка, кураги небывалых размеров и вкуса. С тех детских пор компот из сухофруктов для меня остался настоящим лакомством, а не общепитовской повинностью. Еще мать раза два в год готовила незабываемый сладкий плов из ташкентских гостинцев. «А какой моя мама делала плов! — говорит сестра. — Но все-таки мужчины лучше готовят». Я приосаниваюсь: «Это да. Дивные манты у твоего Толи». Трудно представить, сколько мы накануне съели под домашнее вино, которое Толя привозит со своего виноградника. Обстоятельства новой постимперской жизни: участок недалеко, но это уже Казахстан, так что каждый раз приходится нарушать государственную границу.
Разговоры о еде естественно ведут дальше по скверу Амира Темура, в аллею открытых кафе и закусочных. По-исламски без алкоголя, по-современному водка и пиво все же есть, но только в резной белой беседке, упрятанной среди зелени в глубине парка. На виду и в ходу кока-кола, чай, конфеты, халва, пироги, пирожные, торты, в редких просветах меж сластями — бараньи ребра и куриные ноги.
Один за другим — телевизоры на маленьких столиках. Караоке. Узбек говорит узбеку: «Вам начать?» — и заводит тенором «С чего начинается родина…». Рядом маленький толстяк с глазами-ниточками истово голосит: «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок». На экране колышется рожь, выделяя шрифт черным по желтому. Набор телепесен стандартный: «Москва — звенят колокола! Москва — златые купола!» — звучит с резким восточным акцентом. Уходишь из сквера, и, ударяя в спину, несется гортанный голос по аллее в знойном мареве, вдоль румяной сдобы, вдоль конфет и баранины: «От мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка…».
ДОЛГОТА РИГИ
Очень поздно, уже живя в Штатах, осознал любопытную и, кажется, важную особенность своего рождения в Риге. С тех пор как научился даже еще не читать, а смотреть и видеть, я воспринимал как данность, что одно и то же понятие можно выразить по-разному, двумя способами. На вывеске значилось не «Хлеб», а «Хлеб» и «Maize», не «Молоко», а «Молоко» и «Piens» — двумя различными начертаниями, кириллицей и латиницей. Улица доносила звучание двух словарей. Одни говорили «Привет», другие «8уеУа». С раннего детства был опыт пребывания в неоднородной языковой среде, что потом помогло, подозреваю, в Америке и Европе. И шире — в жизни вообще: допущение иного равноправного варианта, мнения, высказывания. То, что можно назвать альтернативным сознанием, присутствовало изначально. Однако — исподволь, подспудно. В повседневной жизни Рига для меня была русским городом: друзья, школа, семья, соседи. 57-й градус северной широты, на четыре южнее Ленинграда, на полтора севернее Москвы. Другое дело долгота — 24-я: Питер на шесть градусов восточнее, Москва — и вовсе на четырнадцать. В другую же сторону до Берлина десять, до Вены семь, до Стокгольма шесть градусов. Запад недалеко, зато в составе империи — долго. Не то западная Россия, не то восточная Европа. Теперь-то нет сомнений, что Европа, — как некогда во времена Ганзы. Рига входила в Ганзейский купеческий союз, процветавший в XIV-XVI веках, державший в руках торговлю Северной Европы. Потом усиление морских держав — Британии, Голландии — покончило с Ганзой, в известной мере предвосхитившей нынешний Европейский Союз, а кое в чем опередившей. Ганзейцы не проводили государственных границ, объединялись городами: на пике союза их насчитывалось около двухсот. Координация велась из Любека, главные конторы находились в Лондоне, Бергене, Брюгге и — Новгороде, который мог бы стать и уже отчасти был «окном в Европу», если б новгородцев не раздавил Иван Грозный, отчего Петр и занялся прорубанием петербургского окна. Рига занимала достойное место в союзе, о чем сейчас не устает напоминать. Я был на пышном съезде бывших членов Ганзы, который проходил Риге в год 800-летия города, в 2001-м: ганзейское прошлое превращается в европейское настоящее. Однако в моей Риге, в городе детства и молодости, ощущалось по-другому. Оттого сейчас, приезжая, испытываю странное чувство: с одной стороны, здесь каждый камень знаком и полит моим портвейном, с другой — камни эти стоят и выглядят иначе.
Родной город, из которого уехал давно, отличается от остальных тем, что на улице невольно ищешь глазами знакомых и вдруг обмираешь, поймав себя на самообмане: ведь из толпы выхватываешь лица тридцатилетних. Нет тех лиц, нет той Риги, тебя того нет.
Внешние перемены в Риге (в отличие от Москвы) не драматичны, потому что удерживаются в городском контексте, не преображают, а дополняют прежний облик. На Ратушной площади у Даугавы возник Дом Черноголовых (средневекового братства неженатых купцов, чьим покровителем был чернокожий св. Маврикий) — самое вычурное здание города, разрушенное в войну, а теперь восстановленное с нуля. Стоящий рядом угрюмый параллелепипед из Музея красных латышских стрелков стал Музеем оккупации — и той, и другой. Рижский замок, построенный для магистра Ливонского ордена, позже принадлежавший Лифляндскому генерал-губернаторству, побыв при мне Дворцом пионеров, сделался резиденцией президента республики. За Петропавловской церковью, бывшей гарнизонной, поставили памятник Анне Петровне Керн: рижским гарнизоном командовал ее муж, сюда ей слал письма Пушкин («Как поживает подагра вашего супруга?.. Божественная, ради Бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ подагры, подагры!», «Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его… А когда Керн умрет — вы будете свободны, как воздух…»). Появилось множество пивных и кафе, которые не кажутся новыми, потому что открыты на тех или почти на тех местах, которые мы намечали в своих фантазиях, бесприютно болтаясь по Старой Риге.