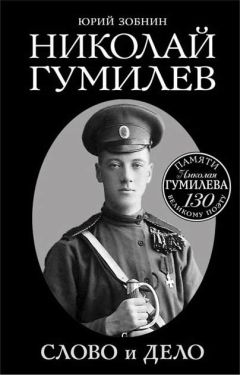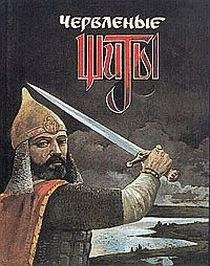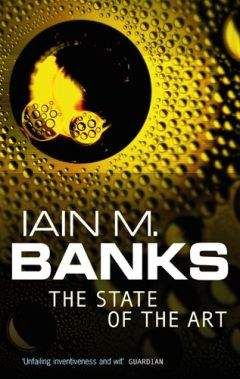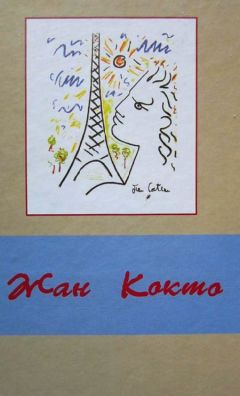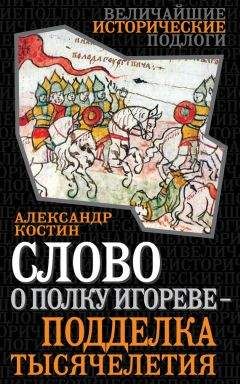Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века
Илл. 160. К. Редько. Победитель. Бокс. 1928. Холст, масло. Государственный музей Каракалпакии. Нукус.
«Страшность» события прочитывается и в прямом смысле – как страх от остановившегося в своем движении времени. Парадокс движения в неподвижности и вызываемого им ужаса, очевидно, был неосознанно предугадан художником как особенность надвигающегося исторического периода. Но помимо очевидных социально-политических реалий, имеет место и страх как тип экзистенциального переживания, страх как «предмет» изображения. Наступала эпоха сюрреализма, и мастер чутко реагировал на изменение общего художественного климата. В середине и конце 20-х годов многие художники были захвачены темой страха. Возникает новая мотивика – оперирующие предметно-бытовой фигурацией произведения акцентируют топику смерти и безысходности. Еще раньше появились полные социального гротеска полотна Б. Григорьева, а в конце 20-х – начале 30-х годов возникла пронзительно-трагическая постсупрематическая живопись К. Малевича, развернулся тревожный темперамент А. Древина. Особенно интересен случай художника С. Лучишкина, который, как и Редько, входил в группу проекционистов и был близок с лидером направления художником С. Никритиным. По словам исследователя, в его живописи «сквозь внешнюю наивность проступают трагические знаки: задавленный автомобилем человечек в одном из вариантов картины «Я очень люблю жизнь» (1924–1926) или висящая фигурка самоубийцы в углу наиболее известного его полотна, картины «Шар улетел» (1926) [илл. 161]. Итогом одной из сельских творческих командировок Лучишкина стал живописный фарс «Вытянув шею, сторожит колхозную ночь» (1930, ГТГ), «портрет» нарочито загадочного сельского агрегата, застывшего посреди степи наподобие зловещего тотема». Своеобразный черный юмор визуальных «рассказов» Лучишкина заставляет вспомнить литературный контекст «страхов» конца 20-х годов. На ум сразу приходят обэриуты, а среди них – Хармс и Липавский.
Илл. 161. С. Лучишкин. Шар улетел. 1926. Холст, масло. ГТГ.
О «страшилках» Хармса написано много, для нас в данном случае интереснее второй из упомянутых писателей. В своей работе «Леонид Липавский: „Исследование ужаса“ (опыт медленного чтения)» Т. В. Цивьян отмечала, что для Липавского «…высшая степень ужасности – неподвижность мира, в котором исчезают пространство и время»[299]. Переклички с пространственно-временной структурой произведения художника налицо. Картина Редько как раз и представляет этот неестественно и потому так пугающе застывший в своей конвульсивной схватке мир. Парадокс «Восстания» Редько состоит в представленной здесь космизации (упорядочивании) хаоса, управлении движением масс средствами центростремительного взрывного, а потому разрушительного движения. Но движение по существу – антидвижение. Эмблематичность визуального нарратива передает движение в неподвижности: акцентировано сочетание движения и антидвижения центрально-осевой симметрии. Это каталепсия времени, по Липавскому, или апокалипсический конец, когда «времени уже не будет». Характерно, что в своем дневнике Редько записывает по поводу картины: «Картина „Восстание“ идет как строгий порыв, обоснованный от начала и предвидящий в развитии своем необходимый конец»[300]. Движение в неподвижности есть источник главного страха, и вместе с тем эта темпоральная форма передает суть повествовательности, возникшей на обломках конструктивистской абстракции: это эмблематический нарратив, подчиняющий секуляризованную вербальную динамику статике сакрализованного предстояния. Интересно, что именно слово «эмблема» является для Липавского ключевым для описания особого состояния застывшего времени в другой его работе – «Объяснение времени»: «…время как некая чуждая сила, как река, несущая мир, – только эмблема»[301].
Есть и еще один аспект ужаса, а именно – точка зрения в нарративе картины. На первый взгляд загадочным кажется смысл жеста вождя, который указывает движущимся массам (со стороны зрителя) путь направо, что явно приходит в противоречие с политической «левизной» РКП(б). Однако это противоречие устраняется, если за точку отсчета принять позицию зрителя. В зеркальном отражении жест Ленина переводится влево, а тем самым нарратив – в модус эго-текста. То есть нарратором является и художник, и зритель – эксцентрический наблюдатель/рассказчик, с которым вождь словно меняется местами. Такого рода совмещение речи повествователя с речью персонажа литературоведы относят к типу сказа[302]. Принцип соединения современного и мифического в представлении события, на котором построено «повествование» в картине «Восстание», соответствует и авангардной орнаментальной прозе, где мифическое представлено структурно и «в мироощущении главного персонажа, с точки зрения которого изображается окружающий мир», как писал В. Шмид, анализируя рассказ Е. Замятина «Наводнение»[303]. В данном случае под мифической структурой можно понимать центрально-осевую симметрию и общую орнаментальность полотна, а точка зрения задана зеркальностью жеста вождя и имплицированным концептом обратной перспективы в линеарной схеме композиции. Амбивалентность позиции рассказчика/персонажа создает то самое поле дурной бесконечности, которой так любил касаться в своих рассказах Хармс. Это также та зеркальность, то оборотничество, которое вызывало ужас у Липавского: «Всякий страх есть страх перед оборотнем»[304]. Оборотничество в «Восстании» Редько – это и центральный персонаж Ленин, и рассказ о нем самого участника события; это и событие, и порождаемый им ужас зрителя.
Очевидно, опыт перевода точки зрения с объекта на субъект изображения лежит в основе опыта авангардной абстракции. Такого рода аберрации лежали в основе поэтики внефигуративной живописи В. Кандинского. Объективизация подобного опыта имела место в супрематизме К. Малевича, а сциентизация объектно-субъектного отношения в творчестве проекционистов переводит зрителя как нарратора в ранг внеличностного начала, причастного всеобщей космогонии. Эмблематический нарратив, созданный в живописи позднего авангарда на этапе его символистической фазы и представленный картиной К. Редько «Восстание», интересен как опыт двуобращенной визуализации сакрализованного времени и как документ эпохи, выдвинувшей отдельного человека на передний фланг истории и при этом поставившей под угрозу личность как таковую.
Глава 5. Вячеслав Иванов и Павел Филонов: к проблеме дионисийства в позднем авангарде[305]
На фоне популярног в нынешних иииииискусствоведческ исследованиях исторического авангарда искусству, возникшему на повороте к фигурации времени «авангарда на излете» в конце 20-х – начале 30-х годов, повезло меньше. Отдается должное трагической экспрессии позднего Малевича, утопическим прозрениям Филонова, страшным рассказам К. Редько и С. Никритина, фантазиям А. Тышлера, а также таким интереснейшим мастерам, как С. Романович, Г. Рублев, А. Волков. Однако по отношению к предшествующей стадии это искусство порой воспринимается как сдача позиций или приписывается волне новой фигурации, охватившей в этот период западноевропейское искусство.
Между тем опыт поставангарда в России, как и самого русского авангарда, особый. Наряду с закономерной вовлеченностью в общеевропейский контекст, он обнажает корни отечественной традиции, и прежде всего – связь с символизмом. Генетическое родство с последним (особенно со вторым поколением символистов) в полной мере осознавалось и представителями исторического авангарда[306], его антиномичность явилась предметом ряда исследований в последнее время[307]. Между тем природа этого явления, на наш взгляд, требует дополнительного обсуждения. В фигуративной живописи конца 20-х годов поворот к тому, что предшествовало авангарду, несет на себе и следы авангардной поэтики, однако карты оказались перетасованными совершенно необычным образом: интерес к символу парадоксальным образом начинает сочетаться в эту эпоху с вниманием к предметной сфере изобразительности, к вещи, пришедшей на смену авангардной вещности самого артефакта. Рассмотрение позднего авангарда в контексте идей Вяч. Иванова, и прежде всего идей дионисийского комплекса, возможно, поможет расставить дополнительные акценты в освещении поставангарда, а также поставить этот феномен в контекст магистральных путей русской культуры. Впрочем, задача настоящей статьи – существенно более скромная. Идея дионисийства способна служить объяснительным механизмом при рассмотрении своеобразия «языка» живописи Павла Филонова. Попытке такого рода интерпретации и посвящена настоящая статья.