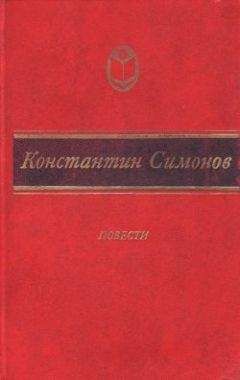Хэролд Блум - Страх влияния. Карта перечитывания
«Улисс» начинается со сложной и простой иронии одновременно, но только та, что попроще, ирония как фигура речи, важна структурно. Горечь самого говорящего сложна и открыта, это ирония как фигура мысли, и она не выполняет защитную функцию. Но защитная ирония — это illusio, когда Улисс говорит «ленивый царь», но подразумевает, как сказали бы мы, «ответственный», занятый только другими, а не интериоризированным поиском знания о своем величии. Когда он говорит, что не может избавиться от путешествий, он подразумевает то же, что подразумевают все великие солипсисты, побуждаемые к исследованию, т. е. что ему не знать покоя, покуда он не останется в одиночестве. Его истиннейший и величайший предок — Сатана Мильтона из книги II «Потерянного рая», где Великий солипсист становится первым и величайшим исследователем, двигаясь сквозь Хаос, точно отражающий его душу. Итак, Улисс говорит о своем величии, и радуясь, и страдая, и «вместе с теми, / Кто любил меня; и в одиночку». Чувствуете разницу? Нигде в стихотворении не говорит он о своей любви к кому бы то ни было, и мы вправе истолковать его чувство собственного величия как всего лишь использующее синекдоху представление того, к чему он способен: «Я часть всего, что встретил я». Для такого богоподобного сознания кеносис — ужасная пустота, а защита отмены — почти безостановочный процесс. Сам Улисс говорит гордо, но и зная себе цену: «Я превратился в имя», в блуждающую метонимию, в каталогизатора и «я», и всего, что лежит за пределами «я». Он «всегда скитается с голодным сердцем», потому что его сердце всегда пусто, и никакое количество «видимых и известных» вещей не может его наполнить. Его постоянно удаляющийся горизонт — это просто бесконечный процесс регрессии, принудительное повторение, вне всякого сомнения, геройское, но вынуждающее нас и изумляться, и протестовать против его замечательного присловья: «Как если бы дыханье было жизнью». Далеко не худшая наша часть так и норовит ответить: «Дышать — значит жить». Но мы не искатели Возвышенного, и мы переходим к следующей даймонизации, к высокой, страсти силы вытеснения:
Когда бы еще одна жизнь продлила жизнь,
Было бы слишком мало и обеих, а уж от одной из них
Осталось слишком мало у меня; но каждый час вырывает
У вечного молчания хоть что-то,
Хотя бы новизну, и подло было бы.
Три солнца кряду собирать и хранить в себе
Сумрачный дух, что вздыхает, вожделея
Последовать, как гаснущая звезда, за знанием
На самую грань человеческой мысли.
Именно карта недонесения помогает нам увидеть все вынужденное безрассудство этой героической гиперболы, поскольку Улисса не удовлетворит никакая высота, будь даже у него в запасе еще одна жизнь. «Самая грань человеческой мысли»» начинает казаться чем-то вроде той мудрости, которую Улисс, Как и Сатана, не в силах воспринять.
Для такой безнадежно напряженной чувствительности перспективизм метафоры — постоянная сублимация, которая никогда не сможет даже приступить к работе, как не могла она работать и для Сатаны. Очаровательно, Что метафора становится открытой, противоположность «внутри/вовне» появляется вместе с неизбежными отзвуками поэзии Китса, первопредшественника Теннисона:
Смерть прекращает все; пока не наступил конец,
Все-таки можно еще совершить благородное дело,
Но только не тем, кто не стал собой, кто боролся с Богом.
На скалах зажигаются огни;
Долгий день убывает; поднимается медленная луна; глубокие
Стоны многих голосов звучат окрест…
Теннисон, великий художник слова, следуя Китсу, представляет свое искусство сублимации, используя заключительное самоубийственное деяние, последнее путешествие искателя Улисса. Но, похоже, читатель убежден не столько этим неудачным ограничением, сколько чудесно переиначивающим представлением, которое замещает его и величественно завершает стихотворение так, что слышны слова, сказанные Сатаной Мильтона в миг его самой сомнительной славы:
Хоть многое утрачено, многое сохранено, и хотя
Теперь мы уже не Та сила, что в прежние времена
Двигала небо и землю, то, что мы есть, мы есть,
Один равный строй героических сердец,
Ослабленных временем и судьбой, но сильных волей
Бороться и искать, найти и не сдаваться.
Когда наступает это «теперь», ведь Улисс готов к возобновлению путешествий? «Теперь» длится только до тех пор, пока говорящий не может оставить его, ибо, говоря «прежде», он подразумевает раннее, или молодое, время, а значит, «прежние времена» — фигура фигуры. Прошлое спроецировано и изгнано в возраст, а настоящее прорывается в будущее, интроецируя бесконечную заблаговременность, которая нужна Улиссу, если ему еще дано знать свою силу. Что же он тогда такое, если не еще одна запоздалая версия того аспекта Сатаны из поэмы Мильтона, который становится аллегорией дилеммы современного поэта? Сатана взывает к «мужеству не уступать вовек», а Улисс будет бороться, искать, находить (что, кроме себя самого?), но, главное, не будет сдаваться. Всего несколько шагов, и вот уже Стивенс производит переиначивающую аллюзию на искателя Теннисона в «Парусе Улисса», где Улисс начинает свой монолог словами: «Насколько я знаю, я есть и имею / Право быть». Этот Улисс стремится получить «Предсказание, растворение, / Разрешившееся в ослепительном открытии». Сильный поэт, столь удачно сражающийся против своей собственной запоздалости, может быть сведен необходимостями недонесения к состоянию, описанному Стивенсом в «Стихотворениях нашего климата», где защита изоляции считается неудачной и где поэт остается одним из тех «дьявольски сложных, животворных «я»», которые невозможно спасти переиначиванием, «пересоздав их силой белизны». Тень, в которой находится Стивенс, — это не только тень Эмерсона, этого американского Мильтона, и тень тоже постоянно пересоздается.
9. ЭМЕРСОН И ВЛИЯНИЕ
Уоллес Стивенс, завершая вторую часть «Заметок по поводу высшего искусства вымысла», озаглавленную «Оно должно изменять», провозгласил, что «воля к изменению, необходимый / И предстоящий нам путь, представление», приносит «свежесть преображения». Но хотя это преображение «мы сами и есть», Хартфордский Провидец слишком лукав, чтобы не наложить на это утверждение обычное для него ограничение:
И необходимость, и представление —
Всего лишь узор на стекле, а мы в него смотримся.
C этими началами, веселья и зависти, предлагаются
Доступные нам амуры. Время запишет их
Стивенс умер в 1955 году; с тех пор предлагались доступные нам амуры с самыми разными началами. Паунд, Элиот, Уильяме, Мур, не говоря уже о многих других, ушли; преждевременно прервался путь Крейна и Ретке, поэтов следующего поколения. Джаррел и Берримен, достижения коих не бесспорны, причастны ныне особому блеску, окружающему обстоятельства их смерти. Современная американская поэзия представляет собой необычайно пестрый калейдоскоп школ и программ, причем последователей хватает на все школы, а читателей — лишь на некоторые. Даже лучшие из наших современных поэтов, принадлежащие и непринадлежащие к группировкам, страдают от бремени, обычного для юдоли видения, которую им хотелось бы считать своей, бремени, в конце концов более тяжкого, чем сиюминутные печали по поводу перенаселенности поэзии или размывания литературной аудитории. Всматриваясь в стекло видений, современные поэты противостоят своим слишком близким гигантским предшественникам, оглядывающимся на них и тем вызывающим сильный страх, который последователи скрывают, но от которого они не в силах уклониться. Неполные уклонения от этого страха можно распознать, исследуя стили и стратегии современной поэзии и не обращая внимания на противостояние манифестов, особенными искусниками в написании которых, кажется, стали современные поэты. Страх влияния, меланхолия, вызванная неудачной попыткой добиться художественного приоритета, все еще ярится, как Сириус, в современной поэзии, а что из этого следует, было известно уже Попу. Назовем время наших поэтов Эрой Сириуса, и пусть она будет реальным эквивалентом вымышленной контркультурной Эры Водолея:
Откуда, Боже мой, писцов такой Содом?
Я вижу весь Парнас, весь сумасшедший дом!
И там, и здесь они встречаются толпами,
С бумагою в руках, с горящими глазами…
Эти страницы я пишу после того, как на протяжении часа, проведенного с пользой для общего образования, смотрел по телевизору выступление группы революционных бардов, черных и белых. Их живительная внешняя свобода от страха влияния не освободила даже только-только начинающих рапсодов от этого, по-видимому, неизбежного заболевания. Прилив риторики приносит обломки знакомых образов предшественников, от Американского Возвышенного Уитмена до возвышенного лжепафоса Имама Амири Барака, и вместе с тем несколько сюрпризов — Эдну Миллей, выдающуюся черную поэтессу, Эдгара Гуэста, автора революционных баллад, или Огдена Нэша, особенно энергичного приверженца свободных форм.