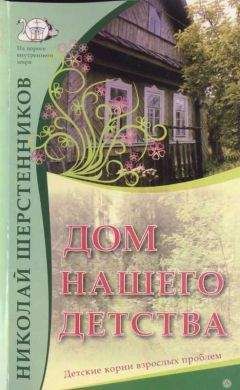Мирон Петровский - Книги нашего детства
«Я ввел в сказку предсказание доброй феи Виллины. Вот что вычитала фея в своей магической книге: „Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний…“ И сразу все действия Элли приобретают целеустремленность. Она хочет вернуться на родину, это — ее заветное желание. Но оно исполнится лишь тогда, когда будут исполнены заветные желания трех других существ. И Элли ищет их, она должна их найти!
Страшила еще сидит на колу в пшеничном поле, Железный Дровосек ржавеет под дождем, Трусливый Лев прячется в лес, дрожа при виде маленьких зверюшек… Но судьба их — счастливая судьба! — уже предрешена…»[343]
Волкову казалась, будто в сказке отсутствует «первотолчок», запускающий сказочный мотор, — и таким первотолчком стало предсказание феи Виллины, а главным действием сказки — возвращение героини домой. На первый план вышла патриотическая идея. Но у рычага, которым Волков перевернул сказочный мир, обнаружился другой, не замеченный сказочником конец: в сказку мощно вошел мотив предопределенности, фатума, судьбы. В приведенной самооценке Волков говорит об этом справедливо и прямо: «…Уже предрешена!». Эта беда, впрочем, вполбеды — сказочная предопределенность вовсе не обязательно должна накладываться на реальную действительность, она может остаться в пределах сказочного мира. Худо другое: прежде совершенно бескорыстные, добрые дела маленькой девочки приобрели теперь сомнительный характер сделки с волшебными силами: я вам добрые дела, вы мне — возвращение на родину…
Но это все потом, на втором круге переработки, а пока — счастливый писатель, закончив веселую работу по пересказу баумовской сказки, сидит над рукописью, не зная, что делать дальше.
V26 марта 1937 года Волков решился на важный шаг: отнес рукопись «Волшебника» в Детгиз. В записной книжке писателя читаем:
«31 марта состоялся разговор с редактором Детгиза Надеждой Александровной Максимовой. Это мой первый редактор, и по первой моей книге у нас было мало разногласий. Помню, на первых страницах рукописи были заметки и поправки, а дальше по 10 страниц подряд и более шли без единой помарки.
Сущность этого разговора изгладилась у меня из памяти, но скорее всего Максимова расспрашивала меня, какие изменения я внес в сказку Баума.
Я давал в редакцию английский оригинал, они держали его довольно долго и, очевидно, сравнивали его с моей интерпретацией. Результаты сравнения были для меня благоприятны»[344].
2 апреля Волков сделал другой важный шаг — обратился с письмом к С. Маршаку. Рассказав коротко о себе и своих литературных делах, Волков просил у Самуила Яковлевича разрешения прислать ему на отзыв рукопись сказки.
Ответ из Ленинграда не заставил себя ждать. Волков подсчитал в записной книжке, что «письмо Маршака было написано через день-два после получения моего», и восхитился: «Завидная аккуратность!»[345] Маршак писал (6 апреля 1937 года):
«Ваше письмо очень меня обрадовало и заинтересовало. Надеюсь, что рукописи Ваши еще больше меня обрадуют. Жду присылки „Первого воздухоплавателя“ и „Волшебника Изумрудного острова“.
Постараюсь — насколько позволит мое здоровье, а оно последнее время довольно в плохом состоянии — поскорее прочесть обе вещи и написать Вам с полной откровенностью, что я о них думаю.
То, что Вы пишете о себе и о своей работе, дает мне основание предполагать, что Вы окажетесь полезным и ценным человеком для нашей детской литературы»[346].
Письмо признанного мастера литературного цеха очень ободрило Волкова, помогло ему справиться с недоверием к себе (а это, как видно, забота всех, кто прикасается к баумовской сказке). Он обдумывал и взвешивал каждое слово письма, даже маршаковскую описку: здесь (и в дальнейшем) Маршак упорно называл сказку «Волшебник Изумрудного острова» — вместо «города». Описка вполне понятная у человека, путешествовавшего в юности по Ирландии и написавшего тогда же очерк под названием «Изумрудный остров», но Волков пытался увидеть здесь деликатную подсказку Маршака: «Быть может, мне стоило воспользоваться его обмолвкой и поселить Гудвина на острове?»[347] 11 апреля рукопись сказки была послана Маршаку, который ответил 3 июня:
«Рукопись Вашу („Волшебник Изумрудного острова“) я получил и сейчас же прочел, но болезнь помешала мне своевременно ответить Вам.
В повести много хорошего. Вы знаете читателя, пишете просто. У Вас есть юмор. Когда мы с Вами увидимся — либо в Москве, либо в Ленинграде, если Вы сможете сюда приехать, — я выскажу Вам некоторые свои замечания в отношении языка, стиля и т. д. Пока же я хочу только сказать Вам, что — по моему впечатлению — Вы можете быть полезны детской нашей литературе.
Если говорить о недостатках повести, то я пока указал бы только на один, — объясняющийся, впрочем, тем, что в основу повести положена иностранная сказка: повесть немножко вне времени. Разумеется, в сказочной, фантастической повести Вы имеете право на некоторую отвлеченность и „вневременность“. Но если Вы вчитаетесь в „Алису“, Вы увидите, что несмотря на всю фантастику — Вы чувствуете в этой вещи Англию совершенно определенной эпохи. Даже на пересказах и переводах всегда есть печать того или другого времени. Есть какая-то точка зрения, по которой можно почувствовать, где и когда это делалось.
Все же я хотел бы, чтобы Ваш первый опыт дошел до читателя. Я поговорю о повести с редакцией Детиздата (если Вы против этого не возражаете), и тогда решим, как и с кем Вы будете над книгой работать. Надеюсь, что редакция долго не задержит вопроса о том, может ли она включить книгу в свой план»[348].
Оптимизм Маршака оказался несколько преждевременным: в сентябре 1937 года Детгиз известил Волкова, что сказка не может быть включена в план 1938 года. В конце сентября состоялся телефонный разговор с Маршаком, о содержании которого свидетельствует конспективная запись Волкова: «Сказать (в Детгизе. — М. П.), что Маршак меня рекомендует, что я — очень способный человек. Когда он (Маршак) будет в Москве, он сам будет обо мне говорить (или пусть они запросят его). Что я могу и буду работать в беллетристике и в области научно-популярной литературы. Сказать, что я — математик. Показать его письмо. Рассказать мою биографию»[349].
Судя по записным книжкам Волкова, издательство не спешило включать сказку в план: «Насчет сказки Андреев отказался разговаривать, так как в Детиздате было чрезмерное увлечение сказками…» Дальнейшее развитие событий — по записным книжкам Волкова 1938 года:
«7 января. „Волшебник Изумрудного города“ внесен в план 1939 года. Значит, достоинства сказки все же взяли верх над бюрократической волокитой…
25 января. Заходил к Пискунову относительно „Волшебника“ и узнал, что издательский план еще не утвержден…
28 января. Узнал о том, что мой договор уже в бухгалтерии. Я следил за ним как генерал следит за продвижением разведчиков во вражеской стране. И не удивительно — ведь это был мой первый договор!»
Но — увы! — это был еще не договор на издание сказки. Речь шла о другой рукописи Волкова — «Первый воздухоплаватель», которая позже вышла в свет под названием «Чудесный шар».
«2 апреля (1938). Звонил заведующему редакцией младшего школьного возраста Пискунову, и тот обещал заключить договор на издание „Волшебника“ в конце апреля»[350].
А через две недели Волков впервые встретился с Маршаком, который к этому времени сделался московским жителем и отдыхал за городом, в санатории «Узкое». Волков подробно описал эту встречу в письме к брату Анатолию:
«15-го после обеда я созвонился с С. Я., и он сказал, что очень рад будет меня видеть. Я взял такси и помчался в Узкое.
С. Я. встретил меня как своего. Это удивительно милый и симпатичный человек, с ним сразу чувствуешь себя легко и свободно.
— Я вас представлял себе совсем не таким, — начал С. Я. — Я думал, что у вас вот такая бородка (поясняющий жест рукой). — Ну, как же, ведь все-таки доцент! А бородки-то как раз и не оказалось.
…И начался у нас душевный разговор. Он подробно расспрашивал меня о моей жизни, о моих интересах и наклонностях, о том, что я читал и каких писателей больше люблю; люблю ли я животных, рисую ли; каковы мои жилищные условия, есть ли у меня время для работы, велика ли моя семья и т. д. Словом, С. Я. проявил величайшую заботливость и величайший интерес ко всему, что меня касалось.
Он много говорил о литературе, о ее подразделении на собственно беллетристику и научно-популярную литературу, разбирал некоторые произведения…