Светлана Адоньева - СССР: Территория любви (сборник статей)
Во всех этих и аналогичных примерах отсутствие — момент отмены Я или же переживание смерти Я — оказывается драгоценным — подлинно экзистенциальным, желанным и сильным. И наоборот, ситуации, когда что-то важное для личности сознательно готовится — вроде давно задуманного свидания с Моной Лизой или встречи нового века — они, эти ситуации, неизбежно оборачиваются ничем, они не чувствуются В сущности, все эпизоды, входящие в «ОдноврЕмЕнно», распадаются на эти две серии: чувствуется (когда Я отменено, когда я переживаю собственную смерть) и не чувствуется (когда Я, кажется, свободно и я пытаюсь контролировать ситуацию, но…). Логика, которая вырисовывается за этими сериями, вполне очевидна, хотя на первый взгляд и противоречит концепции первого спектакля — «Как я съел собаку».
Если в «Собаке» Гришковец констатировал гибель Я, раздавленного встречей с Реальным, то в «ОдноврЕмЕнно», анализируя опыт неосознанно «посттравматического» субъекта, он вдруг обнаруживает, что для этого субъекта — для него самого, как и для его зрителя — именно смерть Я оказывается означающим Реального. А желание заново пережить потрясение Реальным — почувствовать бессознательное в себе и в мире вокруг себя — оказывается куда значительнее для автора-героя, чем заведомо обреченные попытки обрести контроль над собой, своими чувствами и собственной жизнью.
Иными словами, завороженность Реальным, подсознательная жажда экзистенциального потрясения, неизменно оплачиваемого разрушением Я или же погружением в стихию Танатоса, формируют внутреннюю доминанту героя Гришковца, задают его «драйв», определяют его приоритеты. Это желание, бесспорно, является непосредственным отпечатком травмы — но, как ни странно (не странно с точки зрения психологии травмы), связь этого устремления с, условно говоря, опытом Русского острова никак не обсуждается Гришковцом. Более того, Гришковец стремится максимально «универсализировать» этот комплекс, придав ему решительно внеисторический, экзистенциальный характер, что сразу же вносит в спектакль оттенок умозрительности и абстрактности. Абстрактность оказывается плохо совместима с эстетикой Гришковца: она обедняет эмоциональный сюжет и переносит акцент на сюжет интеллектуальный, который, в сущности, сводится к описанию всего лишь двух типов ситуаций — когда «чувствуется» и когда «не чувствуется» — и, строго говоря, не развивается, а топчется на одном месте.
Еще один, не менее важный, эффект этого неосознанного «посттравматического синдрома» видится в том, что отождествление переживания Реального с исчезновением Я становится основанием для особого рода инфантилизма. Движимый травматическим желанием Реального, герой постоянно, сознательно или бессознательно, пытается избавиться от своего Я, но избавиться ему удается лишь от того, что представляет собой атрибуты «взрослого», «серьезного» Я. Иначе говоря, он все время так или иначе «впадает в детство», что сопряжено в первую очередь не только с весьма обаятельной игровой свободой перевоплощений, но и с отказом от «взрослой» ответственности за себя и за других. Тупики идентичности, сформированной страшным, саморазрушительным и в то же время инфантильным желанием Реального как последней, хотя и неосознаваемой ценности, со всей очевидностью проступают в следующих спектаклях Гришковца — в «Планете» и «Дредноутах».
В «Планете» Гришковец пытается говорить о любви — то есть именно об отношениях Я с Другим — и терпит поражение. Показательно, что если предыдущие спектакли встречались критикой с восторгом, то именно этот спектакль впервые вызвал лавину негативных отзывов. Критики заговорили о самоповторах, об абстрактности коллизии, о вымученном пафосе:
Это попытка рассказать об абстрактном через абстрактное. Про X через Y. А что нам все эти X и Y? Совершенно новый уровень абстрагирования нашел отражение уже в самом названии спектакля. Раньше Гришковец был жителем провинции (Кемерово, Калининград), призывником такой-то части, в общем, обитателем какого-то локального и хорошо знакомого ему пространства. Теперь он житель планеты. В какой-то момент он воспаряет над ней, чтобы увидеть сверху Индию, Китай, Тибет, заглянуть в иллюминаторы белоснежного лайнера и нигде не обнаружить искомого. А именно любви. Вообще любви. Абстрактной. Непонятно к кому. И, несмотря на то что фантазия, остроумие и наблюдательность Гришковцу вроде не изменяют, его рассказам о поисках любви (в отличие от всех прочих рассказов) не то чтобы не веришь… Ими не проникаешься[534].
Второй пример:
В разжиженном воздухе «Планеты» бьется человек, которому нечего сказать. То есть все, что хотел, он выговорил вчера и позавчера. Сегодняшнее его выступление сродни желанию договорить: а вот еще, кстати, на ту же тему… А вот еще и еще! Кричит, мечется, как будто позабыв о том, что на сцене он теперь не один и нельзя уже так много внимания требовать к себе одному. Принимает знакомые позы и выражение лица, но — нет. Не то. И не тот. Твой голос на мамин совсем не похож… Смешно вроде бы местами, но к середине подмечаешь, что будто бы уговариваешь себя: смешно. <.. > И любви — как верно замечает «межпланетный» Гришковец — действительно нет… И вот мучается герой «Планеты», мучает себя, иссушает, но — бесплодны муки его. Повторяется. Но повторяется (опять же) не мило так, как тот, прежний Гришковец, а вымученно[535].
Третий:
«Планета» успешно демонстрирует наработанные ноу-хау Гришковца. Сентиментальные интонации и нарочитая неловкость возрождают давно забытую атмосферу песен у костра. Современные зрители, нестарые, небедные и несентиментальные, слушают Гришковца с тем же удовольствием, с которым их родители слушали Окуджаву. Но внезапно автор пускается в идеологический трип, который нарушает экологическую чистоту спектакля. Зачем-то он придумывает полет вокруг планеты Земля с мегафоном наперевес. В этот мегафон он сообщает аборигенам то ли Африки, то ли Австралии: «А любви-то у вас нет!» Прямо как Ленин с броневика. И тут лирика делает нам ручкой и уходит со сцены, уступая место натужному пафосу[536].
Впервые в этом спектакле Гришковец оказывается на сцене не один: женщину, по-видимому также переживающую любовный роман от его возникновения до его естественной смерти, играет актриса Анна Дубровская, и ею даже был написан монолог героини. Но никакого диалога (даже непрямого) между героем и героиней не происходит: женщина всегда надежно отделена от героя стеклом. И в этом, возможно, состоит главный парадокс спектакля: несмотря на то, что речь идет о любви, все происходит только в «пространстве себя».
Любовь для героя Гришковца опять-таки синонимична исчезновению Я:
.. и вот, в состоянии любви можно взять и исчезнуть. Можно… не стать, Вот так, шел по городу, раз и исчез. А потом снова, раз, и появился. И мир весь тоже появился вокруг. А ты находишь себя сидящим на скамейке в каком-то мало знакомом месте. Ты сидишь на грязной скамейке, на которую без любви ни за что бы не сел.
Но герою Гришковца — опять-таки именно потому, что спинным мозгом он помнит о неподдельном ужасе Реального, — необходимо всегда оставаться в положении центра ситуации, не становясь Другим, а отделяя себя от Другого. Вот почему, «исчезая», герой Гришковца непрерывно звонит любимой женщине. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что не исчез окончательно. Что он ей нужен. Оказывается, она ему нужна лишь для подтверждения его центральной позиции в мироздании. Правда, любовь, понятая таким образом, обречена: ведь герой и не пробует проникнуться Другим, разрушив эту опасную границу. Поэтому возлюбленная здесь может быть лишь экраном состояний всегда центрального героя — самостоятельность и свобода ей даны только в области покупки штор и сумочек (мотив, довольно навязчиво звучащий в спектакле).
Присутствие Другого на сцене лишь подчеркивает принципиальную исключенность этого персонажа из мира героя Гришковца, что оказывается особенно поразительным в контексте декларируемой влюбленности этого героя в женщину (возможно, вот в эту — за окном). Как отмечали критики, «девушка ему совсем не нужна, поскольку она — отдельно, и он — отдельно» (Г. Заславский)[537]; «Участие в спектакле А. Дубровской отнюдь не рождает сценического дуэта. Актриса — не более чем фон, оживший элемент внешнего антуража, такой же, как упомянутые спутник или ветка дерева» (И. Алпатова)[538]; «Получается, что женщина в „Планете“, по большому счету, не нужна. Хотя Гришковец и дает ей выговорить что-то вполне личное в пятиминутном монологе, она так и остается абстракцией, девушкой за стеклом. А разговор о любви ведет все тот же единственный персонаж Гришковца, смешной, неловкий, невероятно обаятельный, но по-прежнему бесполый» (О. Зинцов)[539].

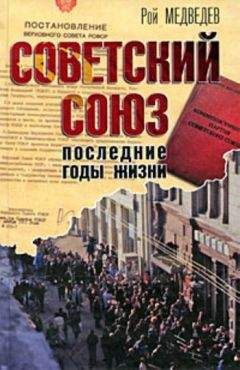
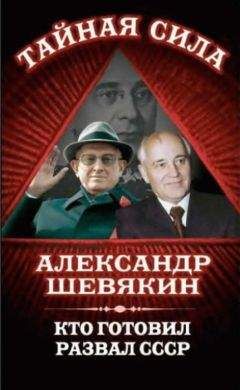

![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/uploads/posts/books/183989/183989.jpg)