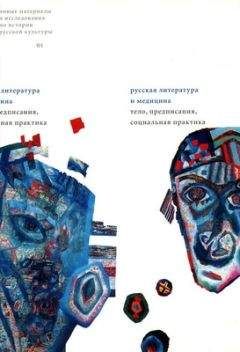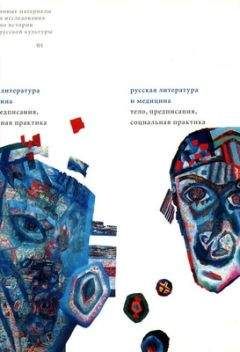Александр Гейман - Три эссе - О итогах культуры на конец ХХ века - размышления непосвящённого
Если на то пошло, технократичны сами поиски выхода из кризиса: он мыслится через новые стили, приемы, сюжеты и т.д. - то есть, через изобретение и внедрение новых технологий. Новизна, нарушение стандарта допускается - но именно в пользу нового стандарта и новой, "лучшей" технологии. А вот отказ от самого подхода, от принципа коллективной нормы, от разработки образца и его массового освоения - вот это для нынешнего искусства вещь немыслимая.
И я еще не касаюсь массовых тиражей - книг, записей, ТВ и радиотрансляций: одно это уничтожает уникальность так называемого "истинного" искусства: единичное в массовом доступе - это нонсенс.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ЖУРНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА.
Уже говорилось о стремлении художественного клана к монополии; дубинка профессионализма здесь не единственна,- вся издательская практика, к примеру, на это нацелена. Контроль внутри труден,- конечно, описанное выше "обучение" что-то дает, но поди охвати им всех. Что ж, если нельзя перегородить вход (Музе к художнику), то можно контролировать выход на публику: решать кому, когда и с чем появиться, а кого "тащить и не пущать". Все это не просто походит, а прямо является стандартной практикой типичной корпорации: защита рынка, подавление конкурентов и т.д. (разумеется, в зависимости от строя есть социалистическая или капиталистическая специфика).
А как же горние высоты святого искусства? Разумное, доброе, вечное? Что ж, произведем вот такой мысленный тест: как,
- 16 по-вашему, явись сейчас Лермонтов или Цветаева и занеси в журнал - любой - свои стихи - сами от себя, с улицы,- сумели бы они что-то напечатать? Конечно, нет,- я думаю, даже сами редакторы не станут оспаривать - ни единого шанса.
Вдумайтесь, это важно: современные издания не способны напечатать, то есть донести до читателя, строки Лермонтова - то, что самой литературой признается как нечто безусловно ценное. Им это попросту не под силу, они на это не рассчитаны. А зачем же тогда нужны журналы? Э, да в том-то и дело что не для этого! Они предназначены для другого, для деланья собственной важности посредством литературы - а отсюда и устроены соответственно.
Сказать, что это дешевка и западло, возможно, и не будет ошибкой,- но если бы здесь имели силу этические оценки! Ведь и "новая волна", едва заполучив в свои руки какое-либо издание, принялась действовать по той же модели - которую она ранее гневно осуждала. Более того, вполне схожим образом - защищая исключительность своей группы - вели себя в начале века Брюсов и Белый в "Скорпионе" - или кружок Мережковского - или акмеисты - и толкала их к тому уж никак не бездарность и аморальность. Суть в другом: искусство и здесь реализует вполне технократическую модель - да еще как - наперегонки с индустрией.
ТИП ХУДОЖНИКА.
Художник, не выявленный вовне,- такой, что пишет в стол, а то и вовсе "в уме",- является для системы (деланья) невидимкой и уже поэтому содержит некую угрозу. По одному этому должны существовать внешние стимулы, приманки - и в целом, направленная селекция (выведение) определенного типа художника: публичного, внешне-нацеленного. [В этом, кстати, разгадка известной допущенности художественной оппозиции к печати и телеэкрану: для витрины: вот N*** - вроде как нонконформист - а печатают, критикует - а его показывают, - значит, можно все-таки пробиться,- и пытались, и обнаруживали себя для недреманного ока,- в общем, принцип подсадной утки. Между прочим, гениальное открытие системы в том, что совсем не обязательно каждому жаждущему отламывать кусок - этак и себе не хватит,- достаточно держать лакомство на виду, за витринным стеклом телеэкрана,- а уж желающих постучаться находилось.]
Идеологическая послушность даже необязательна, важней профессиональность - в смысле натренированной открепленной способности к искусству - и психологический тип. Что до последнего, то, разумеется, такой художник должен крепко сидеть на крючке, а то есть выполнять усиленное деланье собственной важности: это тщеславие, жажда аплодисментов, здесь же артистическая инфантильность, позиция "творцу должны", и, конечно, двоемыслие. Наконец, технократическая модель искусства репродуктивна и требует от художника повторений, часто - механических, что совершенно не в согласии с естеством (так, актер находится под диктатом текста пьесы и задания режиссера, дня и часа спектакля и не может исходить из своих внутренних ритмов). Таким образом, задается если не психическое расстройство, то уж, по крайней мере, разлад с естеством - возмещать который приходится разного рода стимуляторами: алкоголь, разгул и прочая богемная экзотика. Ее принято относить к издержкам жизни художника и видеть в ней этакое
- 17 приложение к искусству. Но это не совсем так: здесь тень не собственно искусства, а его господствующей внешней модели. Можно сказать, что такова художественная разновидность профессионального кретинизма. [Нелишне отметить в этой связи безосновательность тех утешений, к которым прибегали художники под сенью большевизма. Тогда явно или неявно считалось, что истинного художника системе "не взять", что превратить "творцов" в узколобых специалистов не удастся,- не инженеры, дескать. Реальность, однако, в том, что система и здесь преуспела не меньше, чем с технарями: было произведено не одно поколение художников, готовых к государственной службе и без системы беспомощных. Вообще - ХХ век выявил то, что максима Пушкина "Гений и злодейство - две вещи несовместные" есть лишь заповедь, а не констатация уже достигнутого: в том и штука, что это достаточно легко и часто соединялось - нужно лишь порвать звено, прибегнуть к изолированной, специальной культивации гениальности.]
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТВОРЦОВ И ПУБЛИКУ.
Такое разделение - сердцевина технократической модели, и оно же наиболее пагубно для самого искусства. Стремясь заполучить искусство в свою частную собственность, добиваясь монополии, профессионалы предполагают увековечить свое положение "творцов" и все выгоды такого положения: "товар" только у них, значит, можно и заломить. Достигается же обратное: эрозия спроса, потеря интереса к товару.
А все просто: для искусства губителен сам режим потребления, особенность его в том, что устойчивый интерес к искусству возможен только при личной причастности к нему. Действительное "потребление" здесь означает не пассивное восприятие, а занятие искусством. [В культуре, скажем, России XIX века это выражено отчетливо: интерес "благородного" общества к слову, звуку и линии - потому что все сами хоть немного музицировали, баловались в рифму и т.д.]
Профессионалы же стараются навязать "публике" потребительское поведение, отстранить ее от творчества и забрать его себе. (К слову уж, такие действия копируют типичную практику черного мага: подавлять рост других, чтобы увековечить свое превосходство.) Не говорю, что это непристойно (так же, как монополия церкви на Бога), но это в себе противоречиво: тем самым у "публики" создается привычка жить без поэзии, без искусства, а если уж привыкли обходиться без, то с чего вдруг захотят купить? - нэ трэба!
Сказать иначе, достигая профессиональности, искусство рвет звено с жизнью.
3. РАЗРЫВ С РЕАЛЬНОСТЬЮ.
Выражаясь точнее, современное искусство перед реальностью пасует. Так, в приведенном примере с нежеланностью Цветаевой и Лермонтова для современного журнала - это ведь испытание изданий подлинностью (поэзии) - и они его поголовно не выдерживают. А за этим, в свою очередь, стоит разрыв с реальностью. В самом деле, коммерческие привязки отсутствуют,позволить себе перейти сплошь на рекламу, эротику и боевики журналы не могут - да их и это вряд ли бы сильно поддержало,итак, реальность коммерческого спроса отбрасывается. Реальность "культурного" читательского спроса тоже можно игнорировать - спонсоры все равно не читают и не проверят, действи
- 18 тельно ли все лучшее и важное публикует издатель. Остается в силе одна-единственная реальность - имиджа, и, конечно, наше искусство изо всех сил напускает на себя вид обижаемого сироты,- и само собой, для того фабрикуется масса мифов.
Один из таких - бесполезность поэзии (искусства): вообще и в наше время: дескать, поэзия от природы бесполезна - в таком качестве и ценна, за это и должна содержаться государством. Так ли это? Как посмотреть. Во-первых, если говорить об авторах, то большинство с этого ненужного дела все же что-то имеет: не место в СП, так спонсора или выгодный имидж (авангардиста, патриота, борца за демократию и т.п.), имеет - место в группе и, соответственно, ее прикрытие, имеет, худо-бедно, репутацию "поэта" в глазах близких,- в общем, все как-нибудь устраиваются. Во-вторых, если вести речь о внешних приложениях, то поэзия, как-никак, искусство слова и даже - магия слова: так ли уж это сейчас не нужно? Оглянемся - для многих и многих сфер владение словом есть реальная рабочая потребность.