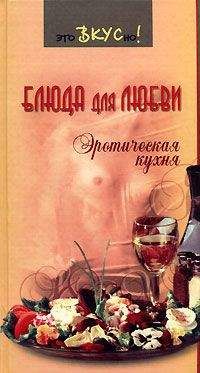Ольга Матич - Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России
В «Истории сексуальности» Фуко пишет, что фетишизм, подчиненный «игре целого и части», стал для рубежа веков «извращением», которое «берется за образец», и служил «путеводной нитью для анализа всех других отклонений»[44]. Впервые он был осознан как сексуальная патология в 1887 г. в статье Альфреда Бине «Фетишизм в любви» (Le fétichisme dans l’amour), на которую ссылается в «Смысле любви» Соловьев. Бине (как и Фрейд десятилетие с лишним спустя) называет гомосексуализм формой фетишизма: вместо того, чтобы восстанавливать целое в прокреации, фетиш, пишет Бине, вытесняет прокреативную сексуальность[45]. Если первоначальная концепция фетишизма у Фрейда («Три очерка по теории сексуальности», 1905) напоминала концепцию французского психиатра, то впоследствии он разработал свою собственную теорию, в которой глубже проявился кризис маскулинности рубежа веков. Связав фетиш со своей (декадентской) теорией кастрации, Фрейд представляет его как суррогат одновременно воображаемого и кастрированного материнского фаллоса, так и «покрывающей памятью» призрака мужской кастрации[46].
Я обращаюсь к психоаналитическим теориям фетишизма и кастрации главным образом в дискурсивном аспекте[47]. Они важны мне как продукт своего времени, скорее в культурном смысле, чем как психологическое явление. Выявляя фетишизирующую фрагментацию и вытеснение в дискурсе русского fin de siècle, я рассматриваю их как образы, выражающие отказ эпохи от прокреативной сексуальности[48]. Несколько видоизменив определение декадентства у Ницше как бунт части против целого, я бы сказала, что декадентство нагружало часть аурой фетишизма.
Искусственное / Гендер
Для декадентов — утопистов фетишизация части, которую они ставили выше природного целого, была борьбой с биологическим порядком вещей. Создавая и мифологизируя фетиши — субстатуты объектов желаний, они утверждали превосходство искусственного объекта над природой и прекрасных произведений искусства над реалистичным изображением. Одна из областей, в которых поколение европейских декадентов вело эту битву, располагалась на границе половых различий, создавая неопределенную и эмансипированную сферу между женским и мужским. Среди символов текучести пола, прославляемой декадентством, были мужчина — денди или гомосексуалист — с одной стороны, и маскулинная, кастрирующая женщина — с другой. Образ денди, описанный Шарлем Бодлером как искусное самоконструирование, вытеснял и сублимировал гетеросексуальную идентичность мужчины, а маскулинная femme fatale, эмансипированная от прокреативной природы, демонстрировала свое превосходство над «обычной» женщиной[49]. Кастрирующая женщина, конструкт кризиса маскулинности эпохи, часто изображалась как Саломея с изысканными драгоценностями, скрывающая воображаемый фаллос под символическими покрывалами. Применяя психоаналитический подход, критики называют ее покрывало покрывающей памятью, которая защищает зрителя — мужчину от призрака кастрации, поскольку скрывает желаемую часть, спрятанную и вытесненную[50].
Как я отмечала ранее, в связи с фетишизацией части и гендерной неопределенностью возникает вопрос о месте андрогина в декадентском дискурсе. Андрогин, «противоестественный» союз мужского и женского, на рубеже веков выступавший в качестве субститута гомосексуалиста, представляет собой декадентский идеал: он воплощает выбор в пользу искусственного против природы, в то же время отвечая характерной для эпохи тоске по целому. Декадентство как будто вытеснило ностальгические мечты о целостности в сферу искусственного: оно преодолевает природу вместо того, чтобы продлевать жизнь. Призрачный образ андрогина, искусственный пол, обитающий вне органического целого и вне истории, обладал необходимой энергией, чтобы уничтожить то притяжение между полами, кульминацией которого является коитус, и — как следствие — продолжение рода. Будучи воплощением искусственного целого, он выступал одновременно в роли эстетизированного фетиша и единого пола, который восстанавливает целое и обеспечивает тело бессмертием после конца природы и истории. В нем воплотилась множественность смыслов, связанных с текучестью пола и бесконечными сменами точек зрения в декадентстве; однако в контексте одержимости патологиями андрогин — фигура гомосексуальности — представлял дегенеративный, неестественный пол. В контексте же универсальной теории бисексуальности андрогин был тем целым, которое восстанавливает единство пола, разделенного на мужской и женский.
Девственность vs брак
Мое исследование не ограничивается антипрокреативными утопиями того времени. Продолжим изложение книги по главам: шестая глава представляет обе стороны вопроса о девственности, оживленно и остро обсуждавшегося на Религиозно — философских собраниях в 1901–1903 гг. в Петербурге. Эти собрания, созданная по замыслу Зинаиды Гиппиус уникальная и практически неизученная дискуссионная площадка, объединяли выдающихся представителей религиозно настроенной интеллигенции и образованного православного духовенства. Они предоставили поле для столкновения декадентского утопизма, институциональной русской православной церкви и шокирующей прокреативной религии Розанова. В частности, их использовал как трибуну Розанов, защищавший секс в браке при помощи методов, которые его оппоненты воспринимали как неблагопристойность. Столкнувшись с завуалированными намеками Розанова, что религиозный аскетизм есть форма однополой любви, представители монашества, должно быть, чувствовали себя крайне уязвленными. Поразительно, что они вообще изъявили желание участвовать в этих полупубличных дискуссиях.
Настоящее исследование начинается с Толстого и заканчивается Розановым — оба этих деятеля инициировали дискуссию о прокреации и неоднократно меняли свое мнение на эту тему. Хотя меня прежде всего интересует Толстой — моралист (глава первая), чье осуждение сексуального влечения было созвучно предпочтению девственности у декадентов — утопистов, я представляю его и как горячего защитника патриархальных ценностей в русской литературе. Седьмая глава — исследование Розанова, архипрокрецианиста в символистских кругах, обожествлявшего пол, деторождение, семью и ее генеалогические функции в своих нетрадиционных сочинениях. В 1890–х гг. Розанов был восторженным поклонником изображения семьи и родов в ранних произведениях Толстого, представленного, например, в знаменитой пеленке с желтым пятном в эпилоге «Войны и мира». Этот образ, по контрасту с позднейшим использованием синекдохи у декадентов, восстанавливает природное целое, утверждая репродуктивный цикл. Поборник семьи и деторождения, Розанов, тем не менее, отнюдь не был моралистом. Напротив! Автор фрагментарных, непоследовательных, если не скользких, текстов, отвергавших христианскую мораль как декадентскую, он с легкостью подписался бы под автоописанием Ницше как «первого имморалиста»[51]. Он полагал, что христианство предпочитает декадентство и бесплодие беременному женскому телу.
Розанов остается самым противоречивым и эстетически радикальным писателем из героев данного исследования. Попутчик символистов, он обнажал их дискурсивные сексуальные программы и страхи и шокировал их чувства, например сравнивая безбрачие с запором. Розанов смелее, чем кто‑либо, говорит о божественности секса, изображая его в откровенно физических терминах. Он отдавал предпочтение повседневности, а не символистской абстракции. Он не скрывал секс за абстрактными образами и дискурсами, как его современники- символисты, а с удовольствием рисовал в своих произведениях сочащиеся жидкостями гениталии, женские груди и беременные животы, подходя к ним как к фетишам в религиозном и сексуальном смыслах. В первую очередь он выступал за гетеросексуальное совокупление, которое, как он полагал, является единственным истинным знаком присутствия Бога в повседневности. Однако в том, что касается литературного новаторства, Розанов фетишизировал фрагментацию повествования и стилистическую гетерогенность и создал — как впоследствии указывал Виктор Шкловский — новый литературный жанр[52].
Русские предшественники
Я рассматриваю эротическую утопию в России на рубеже веков не только в контексте европейского декадентства, но и как продукт специфически русской культурной и литературной традиции. Вероятно, самая радикальная философская теория антипрокреацианизма была сформулирована Николаем Федоровым в его опубликованной посмертно «Философии общего дела» (1906–1907). В ней излагается утопия не менее примечательная, чтобы не сказать фантастическая, чем утопия Соловьева и его последователей. Заключается она в «общем деле», целью которого является коллективное воскрешение всех предков. То есть, по словам Айрин Мазинг — Делич, Федоров «создал наиболее детально разработанную программу победоносной кампании против смерти в русской философии девятнадцатого века», объединив риторические проекты «научного материализма», позитивизма и русского православия[53]. Федоров (1829? —1903), в свое время фигура маргинальная и фактически неизвестная, всю свою жизнь проработал в Москве библиотекарем. Как религиозный мыслитель аскетического толка и мечтатель, Федоров оказал значительное влияние на своих современников, прежде всего на Толстого, Достоевского и Соловьева, а также на деятелей русской культуры последующего поколения (в том числе на Константина Циолковского).