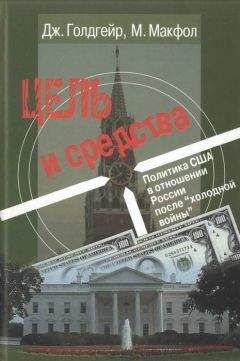Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
Постоянный приток в Россию украинских и белорусских священнослужителей и ссылка грекофила Никона первоначально обеспечили партии латинизаторов заметное преимущество. В шестидесятых годах Полоцкий учредил в Москве частную школу для приобщения слуг государства к латинской культуре, и один из первых учеников Полоцкого, Сильвестр Медведев, в семидесятых годах стал ревностным защитником латинизации. Он был поездившим по свету дипломатом, способствовал заключению мирного договора с Польшей в 1667 г. и в монахи постригся только в 1674-м. В 1667 г. на него в Москве были возложены новые важные обязанности — главного справщика Печатного двора и настоятеля Заиконоспасского монастыря, который стал центром все расширявшейся программы латинского образования в столице. В 1685 г. Медведев подал прошение правительнице Софье (тоже учившейся у Полоцкого) о разрешении превратить свою школу в полуофициальную академию.
Усилия Медведева повысить свой и без того высокий авторитет сделали его уязвимым для свирепых интриг, характерных для Москвы той эпохи потрясения основ и всеобщей подозрительности. Он столкнулся примерно с таким же сопротивлением, как прежде Никон, но Медведеву для проведения своих реформ не хватало силы характера, патриаршей власти и опоры в византийских прецедентах. Вскоре он подвергся нападкам соперничающей фракции, которую поддерживал патриарх Иоахим, а также соперничающей греческой школы при Печатном дворе.
Грекофильская партия обрела новые силы, когда в 1685 г. в Москву из Константинополя приехали братья Лихуды, два образованных, много путешествовавших грека. Они подорвали положение Медведева нападками по вопросам доктрины и оттягали под свою греческую школу каменное здание, предназначавшееся для латинской академии Медведева. Стремительно лишившийся своих постов Медведев вскоре был арестован по обвинению в измене и после двух лет пыток и мук тюремного заключения сожжен за ересь в 1691 г. Но, как и противоборство Никона с Аввакумом, столкновение Медведева и братьев Лихудов завершилось скорее взаимным поражением, а не победой одной из сторон. Лихуды сами незамедлительно навлекли на себя подозрение, как интриганы-иностранцы, и в начале девяностых годов их влияние резко упало[554].
Однако за малопривлекательными частностями этого столкновения скрывались два очень важных фактора с далеко идущими последствиями для русской культуры. Каждая сторона была права в одном из них: латинизаторы — в том, что касалось основного языка и стиля богословского образования и диспутов, грекофилы — в фундаментальных вопросах догмы.
Латинский уклон в богословском образовании знаменовал окончательную победу нового духовенства над традиционным грекоориентированным монастырским укладом Московии. С этих пор русское богословское образование — почти единственная форма образования в России XVIII в. — стало куда более западным по своему содержанию. Латынь навсегда заменила греческий как главный язык филосовских и научных дискуссий; и благодаря своей Церкви Россия стала намного терпимее к светскому образованию и схоластическому богословию, чем допустили бы грекофилы, свято соблюдавшие заветы отцов церкви. Не случайно, что на переломе веков западные богословы разразились настоящим потоком ученых трактатов о русской Церкви, а подавляющее большинство важных богословских трудов и проповедей внутри русской Церкви в этот период принадлежали русским священнослужителям, получившим образование в богословских академиях Западной Европы, языком которых была латынь[555].
Возобладание греков в вопросах догмы во многих отношениях было гораздо удивительнее победы латинизаторов в вопросах формы. Схоластическое богословие католицизма всегда привлекало тех, кто искал логического порядка и синтеза. Больше того, с точки зрения доктрин католицизм был гораздо ближе православию, чем протестантство. Ряд католических положений был в целом подтвержден православной Церковью на Вифлеемском синоде в 1672 г.[556], а другие были втихомолку приняты русской Церковью после 1667 г. без какого-либо ощущения противоречия или предательства. Католическое определение Непорочного Зачатия Пресвятой Девой Марией было широко воспринято. Руководители новой Церкви даже предложили ввести в русский Символ веры давно запрещенную латинскую формулу исхождения Святого Духа, а также сделать главу русской Церкви папой и возвысить четырех ее митрополитов в патриаршее достоинство[557]. Однако латинизаторы больно споткнулись на решающем вопросе о евхаристии, или причащении.
За словно бы чисто формальными спорами об этом таинстве, этом действе-напоминании о Тайной вечере, крылся куда более глубокий вопрос об отношениях человека с Богом в меняющемся мире. Характер присутствия Бога в хлебе и вине крайне смущал западных реформаторов, которые в большинстве сохранили этот обряд, изменив его форму или перетолковав его суть. Гуситы стремились превратить «общую службу» (буквальный перевод слова «литургия») в истинно общую, сделав оба Святые дара равно доступными для всех. Лютер, пытаясь примирить подлинность присутствия Христа и отсутствие фактического пресуществления в хлебе и вине, говорил не о пресуществлении, но о единосущности. Римский догмат евхаристии был точно сформулирован только тогда, когда возникла необходимость противостоять различным толкованиям этого таинства реформаторами. Этот догмат гласил: 1) Христос присутствует в таинстве реально, а не просто символически; 2) полное изменение сути даров (пресуществление) происходит в тот момент, когда священник повторяет слова Иисуса на Тайной вечере: «сие есть тело мое… сия есть кровь моя»; и 3) неизменными остаются чисто «несущественные» свойства вина и хлеба[558].
На протяжении XVII столетия православная Церковь тоже ощущала вызов, брошенный реформаторами, и приняла католический термин «пресуществление» как «единственно возможное слово для отрицания протестантской ереси и одновременно утверждения православной веры»[559]. Русская церковная иерархия, особенно опасавшаяся раскольничьих ересей, играла ведущую роль в общем ужесточении догматических позиций и все большем использовании диалектического метода и схоластической казуистики для их формулирования. Католические, а особенно иезуитские приемы и богословская терминология легко просматриваются в двух незначительных попытках православной Церкви восточных славян обеспечить свою паству систематизированным катехизисом — в «Катехизисе» Могилы 1640 г. и катехизисе 1670 г. Симеона Полоцкого «Венец кафолической веры». Таким образом, Медведев всего лишь продолжал традицию, начало которой положил его учитель Полоцкий, когда рассуждал о пресуществлении и повторял другие положения католического учения о евхаристии в своем длинном догматическом диалоге «Хлеб Жизни» и втором, более полемическом труде «Манна Хлеба Жизни».
Изложение Медведевым католической позиции оскорбляло русское православие в двух важных отношениях. В первую очередь, различение несущественных и существенных свойств вина и хлеба терминологически вносило казуистику в то, что православие считало Святым таинством, свершавшимся за закрытыми дверями алтаря во время третьей, наиболее священной части православной обедни, называющейся «литургией верных». Кроме того, оно указывало точный момент, когда Бог нисходит к человеку через пресуществление Святых даров.
Именно второе навлекло на Медведева нападки, а затем и анафему, так как имело непосредственное отношение к первопричине раскола между Церквами — к отказу восточной принять западную версию Никейского Символа веры, согласно которому Святой Дух исходит от Отца и Сына. Некое внушающее благоговейный ужас, исполненное тайны главенство внутри единосущей Святой Троицы на Востоке отводилось Отцу, а позиция Медведева словно бы вновь ставила под сомнение это главенство. В той мере, в какой вообще можно определить точный миг, с какого Бог пресуществляет себя в хлебе и вине, миг этот, настаивали критики Медведева, наступает после молитвы священника о нисхождении в Святые дары Духа Святого, следом за повторением слов Христа.
Иными словами, чудо присутствия Бога в Святых дарах обеспечивалось не тем, что священник повторял жертвенные слова Христа, но общей молитвой верующих, просящих Бога о нисхождении Его Духа Святого[560].
Стало быть, за всей корыстью интриги, завершившейся трагедией Медведева, крылось нежелание русской Церкви полностью принять четко сформулированные догматы католицизма в послереформационную эпоху, сколько бы формулировок и методов обучения ее иерархи ни заимствовали у католиков. Русская Церковь демонстрировала упрямую решимость вновь утвердить уникальность своих догматов даже в то самое время, когда она утрачивала былую независимость от государства и отвергала свою прежнюю ориентацию на греческую культуру.